15:22 25-03-2007
вечно
Вы знаете зиму? Такую белую, такую таинственную, открывающую свои богатства под галогенным фонарём, лютой стужей стерилизующей землю, воздух и пейзажи? Кажется, будто не может быть ничего живого здесь же, летом, кажется, будто и лета не может быть в этом царстве снега и мороза.
Вы знаете лето? Такое выжженое солнцем, знойное, с пожухлыми красками и покоричневевшей зеленью, где есть место только ослепительно-белому небу и солнечным зайчикам на асфальте? Кажется, будто и не может быть холода, не бывает снега в этом царстве беспощадного солнца.
И кажется, будто их две: две природы, две погоды, и трудно взглянуть на год целиком, и обнаружить, что природа одна, единая в двух лицах.
Когда я все эти десять лет с тоской смотрел на осеннее небо, уходящая за левый берег, мне казалось, что где-то там хрустальный дворец в жёлтом городе вечного сентября, и там живёт моя муза, моя вечная небесная подружка, шлёт мне приветы, которые очень трудно выразить музыкой и писаниной. Но я пытался. А вдруг она не там была всё это время, вдруг их тоже две, и внизу, под хрустальным дворцом — проспект, названный в честь великого мыслителя пролетариата, и станция метро, названная в честь неизвестного студента. И это только я не могу совместить их в одну: ведь как может быть одновременно и то и это?
Смотрю из окна на размалёванное акварелью небо и уверенное мартовское солнце, а внизу капает с крыши на парапет балкона, и это так красиво, что я бы наверное мог вечно смотреть на эти капли. И я буду, и снова и снова я буду возвращаться в этот день, ведь я живу прошлым, и капли эти будут вечно слетать с крыши, и в них вечно будет отражаться заходящее весеннее солнце.
Вы знаете лето? Такое выжженое солнцем, знойное, с пожухлыми красками и покоричневевшей зеленью, где есть место только ослепительно-белому небу и солнечным зайчикам на асфальте? Кажется, будто и не может быть холода, не бывает снега в этом царстве беспощадного солнца.
И кажется, будто их две: две природы, две погоды, и трудно взглянуть на год целиком, и обнаружить, что природа одна, единая в двух лицах.
Когда я все эти десять лет с тоской смотрел на осеннее небо, уходящая за левый берег, мне казалось, что где-то там хрустальный дворец в жёлтом городе вечного сентября, и там живёт моя муза, моя вечная небесная подружка, шлёт мне приветы, которые очень трудно выразить музыкой и писаниной. Но я пытался. А вдруг она не там была всё это время, вдруг их тоже две, и внизу, под хрустальным дворцом — проспект, названный в честь великого мыслителя пролетариата, и станция метро, названная в честь неизвестного студента. И это только я не могу совместить их в одну: ведь как может быть одновременно и то и это?
Смотрю из окна на размалёванное акварелью небо и уверенное мартовское солнце, а внизу капает с крыши на парапет балкона, и это так красиво, что я бы наверное мог вечно смотреть на эти капли. И я буду, и снова и снова я буду возвращаться в этот день, ведь я живу прошлым, и капли эти будут вечно слетать с крыши, и в них вечно будет отражаться заходящее весеннее солнце.
Группы: [ добрые записи ]
[ концептуальное ]
Комментарии [8]
22:08 28-01-2007
Как-то иначе я всегда себе это представлял. Признаться, наверное даже не верил до конца, вернее верил, но не связывал с самой реальностью — а реальность, друзья мои, это не то, о чём думаешь, а это то, что происходит, понимаешь ли ты, осмысляешь ли ты или просто хватаешься за голову, пребываешь в какой-то растерянности…
Думал, будет как-то по-другому: камни падут, знаете ли, с небес, и воды земные наполнятся кровью, и луна обернётся багрянцем. Или гиганская волна в десятки метров высотой, гоня перед собой ураганы и пыль, сотрёт всё на своём пути. Или, в самом деле, обрывок, маленький, но точно направленный кусочек солнечной короны обоймёт Землю и огненный шквал испепелит всё живое.
А оно — так.
Я представил себе, как я буду последовательно излагать все события в мире за последние несколько недель, всё, что происходило вокруг меня, и, наконец, в моём личном мире — я уложу все события в одну стройную канву… Но мне так лень, вы не поверите… В самом деле, это ни к чему. Те, кто всё ещё ничего не видят — всё равно не поймут; впрочем — увидят и они, я думаю. Совсем скоро.
Люди, которые меня возмущали своей нелепостью, недальнозоркостью, низостью — вдруг стали мне безразличны. Весь жар мой доказать, объяснить, просветить — вдруг куда-то пропал; и люди эти стали тенями… Я чётко начал видеть, где тень, а где какая-то аура что ли.
За себя-то мне не беспокойно, я-то знаю, что попал в Список. Давно ещё, несколько лет назад видел я сон, значение которого для меня совершенно однозначно. Другое беспокоит: почему? За что? Разве я чем-то лучше того или другого, разве сделал я что-то хорошее за свою недолгую жизнь паразита, хмыря и критикана? Неисповедимы… Так зачем-то надо. Может быть, ради одной только гордости, чтобы там, в Новом Мире, я был младшим из братьев моих, и каждый меня ласково понукал — не вслух, нет, они слишком деликатны для этого — но про себя: экий ты, Ванёк, недотёпа. Трудно ждать, будто потом я буду чем-то лучше, чем сейчас, просто от того, что настанут другие условия.
Что может быть хуже особого одиночества: увидеть погибель друзей, соседей, коллег, бывших одноклассников, знакомых лиц из трамваев и магазинов? Я тут хвастаюсь, будто вижу, кто с аурой, а на ком печать смерти… Но вы не думайте, я этого не вижу, конечно… Это так, для красивого слова.
Лучи хлынули на Землю, и это случилось сейчас, просто настал срок зажечься какому-то новому огню, особому, последней звезде в гирлянде, последей вспышке, завершающей грандиозный фейерверк. Не знаю, какие лучи, да не состав их важен, а то, что они есть. Лучи эти, проходя сквозь камень и плоть, заставляют гореть то, что с ними несовместимо. Так становится явным тайное. Так заболевают неведомыми болезнями те, чьи тела грязны; так сходят с ума те, у кого нечистые помыслы. Так страшные бури и катаклизмы обрушиваются туда, где природа омертвела от страшнейшей заразы во вселенной — человека разумного, человека бездушного, человека гадящего на Лес.
Не о чем спорить с мёртвыми, пусть мёртвые сами хоронят своих мертвецов.
Я не неистовствую, нет… Мне грустно, и очень, очень одиноко…
Я пытался объяснить — тем, кто видит и не понимает, и нуждается в объяснении. Но как объясню я, когда сам не понимаю ничего. Я просто вижу, оно реально, и оно немножко ужасно. Я не знаю, что будет со мной, с миром, что именно будет… Я ни в чём не уверен… Наверное, будет быстро и не больно. Так надо, чтобы пришёл Новый Мир.
Тут не в тему музыка, но слушаю Fatboy Slim - Right Here, Right Now.
Думал, будет как-то по-другому: камни падут, знаете ли, с небес, и воды земные наполнятся кровью, и луна обернётся багрянцем. Или гиганская волна в десятки метров высотой, гоня перед собой ураганы и пыль, сотрёт всё на своём пути. Или, в самом деле, обрывок, маленький, но точно направленный кусочек солнечной короны обоймёт Землю и огненный шквал испепелит всё живое.
А оно — так.
Я представил себе, как я буду последовательно излагать все события в мире за последние несколько недель, всё, что происходило вокруг меня, и, наконец, в моём личном мире — я уложу все события в одну стройную канву… Но мне так лень, вы не поверите… В самом деле, это ни к чему. Те, кто всё ещё ничего не видят — всё равно не поймут; впрочем — увидят и они, я думаю. Совсем скоро.
Люди, которые меня возмущали своей нелепостью, недальнозоркостью, низостью — вдруг стали мне безразличны. Весь жар мой доказать, объяснить, просветить — вдруг куда-то пропал; и люди эти стали тенями… Я чётко начал видеть, где тень, а где какая-то аура что ли.
За себя-то мне не беспокойно, я-то знаю, что попал в Список. Давно ещё, несколько лет назад видел я сон, значение которого для меня совершенно однозначно. Другое беспокоит: почему? За что? Разве я чем-то лучше того или другого, разве сделал я что-то хорошее за свою недолгую жизнь паразита, хмыря и критикана? Неисповедимы… Так зачем-то надо. Может быть, ради одной только гордости, чтобы там, в Новом Мире, я был младшим из братьев моих, и каждый меня ласково понукал — не вслух, нет, они слишком деликатны для этого — но про себя: экий ты, Ванёк, недотёпа. Трудно ждать, будто потом я буду чем-то лучше, чем сейчас, просто от того, что настанут другие условия.
Что может быть хуже особого одиночества: увидеть погибель друзей, соседей, коллег, бывших одноклассников, знакомых лиц из трамваев и магазинов? Я тут хвастаюсь, будто вижу, кто с аурой, а на ком печать смерти… Но вы не думайте, я этого не вижу, конечно… Это так, для красивого слова.
Лучи хлынули на Землю, и это случилось сейчас, просто настал срок зажечься какому-то новому огню, особому, последней звезде в гирлянде, последей вспышке, завершающей грандиозный фейерверк. Не знаю, какие лучи, да не состав их важен, а то, что они есть. Лучи эти, проходя сквозь камень и плоть, заставляют гореть то, что с ними несовместимо. Так становится явным тайное. Так заболевают неведомыми болезнями те, чьи тела грязны; так сходят с ума те, у кого нечистые помыслы. Так страшные бури и катаклизмы обрушиваются туда, где природа омертвела от страшнейшей заразы во вселенной — человека разумного, человека бездушного, человека гадящего на Лес.
Не о чем спорить с мёртвыми, пусть мёртвые сами хоронят своих мертвецов.
Я не неистовствую, нет… Мне грустно, и очень, очень одиноко…
Я пытался объяснить — тем, кто видит и не понимает, и нуждается в объяснении. Но как объясню я, когда сам не понимаю ничего. Я просто вижу, оно реально, и оно немножко ужасно. Я не знаю, что будет со мной, с миром, что именно будет… Я ни в чём не уверен… Наверное, будет быстро и не больно. Так надо, чтобы пришёл Новый Мир.
Тут не в тему музыка, но слушаю Fatboy Slim - Right Here, Right Now.
Комментарии [1]
16:59 11-04-2006
Элвин Навсегда
Присев на корточки, уронив голову на сложенные руки, он задремал или замечтался, углубившись носом куда-то в далёкие воспоминания, в запахи нейлоновой ветровки. Вскинул голову — всё та же дымная вода залива, без горизонта, только вода, незаметно переходящая в небо вода. Он сидел у самого краешка холодной береговой линии, сквозь неглубокую плёнку просвечивали грустные камешки и одноцветный песок. Странно, что начало августа было таким холодным.
Сзади раздавались голоса: это мама, сестрёнка и ещё одна мама, чужая и молодая, с маленьким сынишкой. Теперь забылось, как его звали, но Чёрный Рыцарь играл с ним, крепко держа за руки и кружась с ним волчком, так, что малыш, визжащий от восторга, поднимался почти горизонтально земле. И ещё он обещал сестрёнке никогда-никогда её не обижать, и они поссорились на следующий же день, тут же и помирившись.
В низком хмуром небе летали чёрные точки, расписывая круги, и чуть пульсируя — так казалось, а на самом деле махая крыльями. На морском берегу были ещё сосны, Чёрный Рыцарь обернулся и увидел их, и ничего не подумал, это позже он будет думать, что в жизни было мало прекрасных минут, похожих на эти. Будущего он не знал, и знать не мог, что скоро, совсем скоро его руки покроются кевларовой коркой, тело станет железным, а сердце — огненным мотором. И прошлого он помнить не хотел, отодвигал в пыльный угол весь прошлый месяц, детский лагерь в чужой стране, месяц, за который он сделал удивительное открытие для своих двенадцати лет — что люди вовсе не добрые. Иногда они очень, очень злые.
Кажется, что эти сосны, и каменная стена в пяти метрах от береговой линии, и пасмурное небо, и холодное море — всё было живой картинкой того, что перемешивалось внутри, и как вещи, завдигаемые в пыльный угол, не желали там оставаться и лезли на свет, тусклый свет разума.
Он будет потом безуспешно искать встречи с холодным берегом и туманным горизонтом, с коршунами в тяжёлом небе, со странным ощущением счастья родной земли и затаившегося где-то рядом страха. Он повернулся, присев на колено и зачерпнул холодного, слипшегося песка. Присутствие родных людей рядом в эти минуты совсем не чувствовалось и невиданное ранее чувство одиночества, что появилось у него за этот месяц, вовсе никуда не исчезло, но снова поднялось из глубины. Холод его был приятен, по-новому необычно приятен.
Минуты — между прошлым и будущим, те недолгие минуты пребывания в равновесии с самим собой, словно в день весеннего равноденствия. Позади — наивная доброта, впереди — оправданная ненависть. Где-то в сердце спит будущая любовь, и где-то за серыми тучами небесная половинка ждёт будущих встреч. Элвин уже никогда не вернётся сюда, Элвин останется здесь навсегда.
Current music: Линда - Никогда
Сзади раздавались голоса: это мама, сестрёнка и ещё одна мама, чужая и молодая, с маленьким сынишкой. Теперь забылось, как его звали, но Чёрный Рыцарь играл с ним, крепко держа за руки и кружась с ним волчком, так, что малыш, визжащий от восторга, поднимался почти горизонтально земле. И ещё он обещал сестрёнке никогда-никогда её не обижать, и они поссорились на следующий же день, тут же и помирившись.
В низком хмуром небе летали чёрные точки, расписывая круги, и чуть пульсируя — так казалось, а на самом деле махая крыльями. На морском берегу были ещё сосны, Чёрный Рыцарь обернулся и увидел их, и ничего не подумал, это позже он будет думать, что в жизни было мало прекрасных минут, похожих на эти. Будущего он не знал, и знать не мог, что скоро, совсем скоро его руки покроются кевларовой коркой, тело станет железным, а сердце — огненным мотором. И прошлого он помнить не хотел, отодвигал в пыльный угол весь прошлый месяц, детский лагерь в чужой стране, месяц, за который он сделал удивительное открытие для своих двенадцати лет — что люди вовсе не добрые. Иногда они очень, очень злые.
Кажется, что эти сосны, и каменная стена в пяти метрах от береговой линии, и пасмурное небо, и холодное море — всё было живой картинкой того, что перемешивалось внутри, и как вещи, завдигаемые в пыльный угол, не желали там оставаться и лезли на свет, тусклый свет разума.
Он будет потом безуспешно искать встречи с холодным берегом и туманным горизонтом, с коршунами в тяжёлом небе, со странным ощущением счастья родной земли и затаившегося где-то рядом страха. Он повернулся, присев на колено и зачерпнул холодного, слипшегося песка. Присутствие родных людей рядом в эти минуты совсем не чувствовалось и невиданное ранее чувство одиночества, что появилось у него за этот месяц, вовсе никуда не исчезло, но снова поднялось из глубины. Холод его был приятен, по-новому необычно приятен.
Минуты — между прошлым и будущим, те недолгие минуты пребывания в равновесии с самим собой, словно в день весеннего равноденствия. Позади — наивная доброта, впереди — оправданная ненависть. Где-то в сердце спит будущая любовь, и где-то за серыми тучами небесная половинка ждёт будущих встреч. Элвин уже никогда не вернётся сюда, Элвин останется здесь навсегда.
* * *
никогда
этих снов никому
этих слов, только ветер знает,
там где я буду, навсегда, навсегда
посмотри
мы не одни, не забудь
крылья мои, ты иди по свету,
а значит это — я с тобой навсегда
назови
имя моё, позови
выйти в рассвет, не устать в дороге
я знаю — много, нам идти много лет
для тебя
эти дни, о тебе
эти сны на моих ладонях
тепло от моря, навсегда, навсегда…
никогда
этих снов никому
этих слов, только ветер знает,
там где я буду, навсегда, навсегда
посмотри
мы не одни, не забудь
крылья мои, ты иди по свету,
а значит это — я с тобой навсегда
назови
имя моё, позови
выйти в рассвет, не устать в дороге
я знаю — много, нам идти много лет
для тебя
эти дни, о тебе
эти сны на моих ладонях
тепло от моря, навсегда, навсегда…
Current music: Линда - Никогда
Группы: [ концептуальное ]
[ Оранжевая Книга ]
20:41 31-01-2006
401
Вечеринка по поводу трёхлетия моего дневника длится уже вторую ночь, и разумное, конечно же, возьмёт верх над стихийным в конце концов; но пока — пока можно и пожить. Зима на исходе: ещё одно маленькое усилие, и она закончится жданной весною. Пьяные друзья и подруги лежат вперемежку на полу и я не могу определить, кто и где, ни лиц, ни пола; и ничего знакомого нет ни в какой из теней, но все они в целом есть одно существо: большое, глупое и симпатичное. Если приглядеться, можно увидеть, что оно медленно шевелится, но это заметно только по колыханию неровного оконного прямоугольника с вытянутыми тенями штор, распластавшегося по материям и спинам.
Открытая форточка над головой меняет кольца дыма сигарет на уличный ветер, и он свежит, и он бубнит что-то неразборчивым рассветным гулом. Теперь, в этой водолазке с обтрёпанными манжетами, пропахшей «честерфилдом» я буду узнаваем даже на ощупь. Друзья спят, а моё дело — курить и бодрствовать, в этом задача, и да поможет мне в этом пиво в трёхлитровой. Но банка далеко, и тянуться лень. Да и состояние такое, когда пиво безвкусно, водка не лезет, и ни то ни другое уже ничего не могут изменить в моём самочувствии. Я бы пил коньяк, и пожалуй пусть в моей руке ненавязчиво окажется небольшая рюмочка, и в ней всего-то на два пальца. Не чтобы пить, а чтобы держать и иногда принюхиваться.
А как закрою глаза, то сразу вижу самолёт, игрушечный, но вполне летающий. Он стоит на мокрой траве, и вот он разгоняется прямо перед глазами, и вот уже трава хлещет по подбородку, уши — крылья, а голова — пропеллер, я взлетаю и ослепительный голубой дурман врезается в ноздри, в щёки, в какие-то нервы, которые спят в городской толпе, всё чувствует, всё живёт, парит, взмывает!… Или же не самолёт, а оранжевый воздушный змей с рисунком в виде огромной муравьиной головы на спине, он ударятеся об солнце, земля и небо меняются местами и вращаются вокруг точки ярких лучей…
А как открою глаза, то вижу стены и силуэты полок, торчащие из-под тел очертания кроватей и столов, чёрные доспехи на стене и детские рисунки рядом же, совершенно серые и неразличимые, а в коридоре на тюфяке дремлет собака. Докуриваю сигарету, плющу в жестяной коробочке, потом ковыряю обугленное пятно слева, на груди. Where you want to go today? Всё равно. Везде поспеть немудрено.
Перед восходом солнца — не надышишься. Жду громового оркестра дня, но не люблю предательское светание, когда магия тёмных вещей высмеивается блекнущим небом, когда сумеречное таинство победоносно разоблачается набирающим силу рассветом. Пусть будет день, яркий и полноводный, волны ветра запутаются в травах, и ржавые рельсы яро распорят брюхо Природы, чтобы вскоре бесследно врасти в неё, возвращаясь в ласковые руки матери. Так и я врасту когда-нибудь, когда город этот, и улицы его, и рекламы, и фонари, и автобусы медленно и неуклонно утонут в объятиях той, которая больше не судит и умеет прощать.
И вот, когда лучи солнца начинают смело гулять по стенам, я выхожу в океан запахов и прохлады. Спешат сонные автобусы, где едут сонные добрые люди. Главная шарада во мне и для меня: что значат стены набережной, и колонны моста, и железные ограды? Почему такую важность имеет моя джинсовая куртка с удобными и большими внутренними карманами? Я смотрю на реку, превратившуюся в маленькое море, и всё в порядке, потому что рука нащупывает в том самом кармане слева полуполную пачку сигарет…
Жаль, что тебе на всё это насрать.
И нет в этом ничего дурного, это справедливо, ведь и мне плевать на твой малопонятный мир. Ветхозаветная справедливость проста и точна: выколоть глаз за глаз, откусить ухо за ухо. Куда сложнее и туманнее другая справедливость, как в давнишнем фильме про Христа: когда за Ним пришли, и Пётр отрубил ухо стражнику, Иисус приложил руку и оно приросло обратно как было. Очень хочется домой, и если Иисус Христос вернётся к своей блуднице, то и мертвецы устало побредут в сторону рассвета, где им светит когда-нибудь новая жизнь.
Current music: Tequilajazzz - Склянка запасного огня
Открытая форточка над головой меняет кольца дыма сигарет на уличный ветер, и он свежит, и он бубнит что-то неразборчивым рассветным гулом. Теперь, в этой водолазке с обтрёпанными манжетами, пропахшей «честерфилдом» я буду узнаваем даже на ощупь. Друзья спят, а моё дело — курить и бодрствовать, в этом задача, и да поможет мне в этом пиво в трёхлитровой. Но банка далеко, и тянуться лень. Да и состояние такое, когда пиво безвкусно, водка не лезет, и ни то ни другое уже ничего не могут изменить в моём самочувствии. Я бы пил коньяк, и пожалуй пусть в моей руке ненавязчиво окажется небольшая рюмочка, и в ней всего-то на два пальца. Не чтобы пить, а чтобы держать и иногда принюхиваться.
А как закрою глаза, то сразу вижу самолёт, игрушечный, но вполне летающий. Он стоит на мокрой траве, и вот он разгоняется прямо перед глазами, и вот уже трава хлещет по подбородку, уши — крылья, а голова — пропеллер, я взлетаю и ослепительный голубой дурман врезается в ноздри, в щёки, в какие-то нервы, которые спят в городской толпе, всё чувствует, всё живёт, парит, взмывает!… Или же не самолёт, а оранжевый воздушный змей с рисунком в виде огромной муравьиной головы на спине, он ударятеся об солнце, земля и небо меняются местами и вращаются вокруг точки ярких лучей…
А как открою глаза, то вижу стены и силуэты полок, торчащие из-под тел очертания кроватей и столов, чёрные доспехи на стене и детские рисунки рядом же, совершенно серые и неразличимые, а в коридоре на тюфяке дремлет собака. Докуриваю сигарету, плющу в жестяной коробочке, потом ковыряю обугленное пятно слева, на груди. Where you want to go today? Всё равно. Везде поспеть немудрено.
Перед восходом солнца — не надышишься. Жду громового оркестра дня, но не люблю предательское светание, когда магия тёмных вещей высмеивается блекнущим небом, когда сумеречное таинство победоносно разоблачается набирающим силу рассветом. Пусть будет день, яркий и полноводный, волны ветра запутаются в травах, и ржавые рельсы яро распорят брюхо Природы, чтобы вскоре бесследно врасти в неё, возвращаясь в ласковые руки матери. Так и я врасту когда-нибудь, когда город этот, и улицы его, и рекламы, и фонари, и автобусы медленно и неуклонно утонут в объятиях той, которая больше не судит и умеет прощать.
И вот, когда лучи солнца начинают смело гулять по стенам, я выхожу в океан запахов и прохлады. Спешат сонные автобусы, где едут сонные добрые люди. Главная шарада во мне и для меня: что значат стены набережной, и колонны моста, и железные ограды? Почему такую важность имеет моя джинсовая куртка с удобными и большими внутренними карманами? Я смотрю на реку, превратившуюся в маленькое море, и всё в порядке, потому что рука нащупывает в том самом кармане слева полуполную пачку сигарет…
Жаль, что тебе на всё это насрать.
И нет в этом ничего дурного, это справедливо, ведь и мне плевать на твой малопонятный мир. Ветхозаветная справедливость проста и точна: выколоть глаз за глаз, откусить ухо за ухо. Куда сложнее и туманнее другая справедливость, как в давнишнем фильме про Христа: когда за Ним пришли, и Пётр отрубил ухо стражнику, Иисус приложил руку и оно приросло обратно как было. Очень хочется домой, и если Иисус Христос вернётся к своей блуднице, то и мертвецы устало побредут в сторону рассвета, где им светит когда-нибудь новая жизнь.
* * *
если в окна ветром
ночью будишь ты меня
не включая света
открываю окна я
подойди поближе
видишь: ниже,
прямо под луной
ливнем не обижен
оживает мир ночной…
если ты под утро
на листве холодной спишь
долбишь Кама-Сутру
и не веришь в пользу крыш
приснись мне где-нибудь поближе
где увижу
я твой путь ночной
я точно не обижусь
и отправлюсь за тобой…
вот и дверь,
за нею — звери
вдаль бредут толпой
верь — не верь
они за той отравленной иглой
но только здесь — моя империя
со мной всегда моя
склянка запасного огня
и с нею — я
если в окна ветром
ночью будишь ты меня
не включая света
открываю окна я
подойди поближе
видишь: ниже,
прямо под луной
ливнем не обижен
оживает мир ночной…
если ты под утро
на листве холодной спишь
долбишь Кама-Сутру
и не веришь в пользу крыш
приснись мне где-нибудь поближе
где увижу
я твой путь ночной
я точно не обижусь
и отправлюсь за тобой…
вот и дверь,
за нею — звери
вдаль бредут толпой
верь — не верь
они за той отравленной иглой
но только здесь — моя империя
со мной всегда моя
склянка запасного огня
и с нею — я
Current music: Tequilajazzz - Склянка запасного огня
Группы: [ концептуальное ]
[ Оранжевая Книга ]
Комментарии [8]
21:52 03-07-2005
Десять солнечных лет
Академгородок принял меня скверно: пасмурным небом, хмурыми прохожими, разбросанным мусором, запахом сырости. Академгородок провожал меня весело: низким солнцем, сочными травами, большим окном автобуса.
Тогда, наверное, в удобном сиденье у большого окна, я решил распрощаться со своей эпохой десяти солнечных лет.
А может быть и раньше, в убогом жилище А.Г., среди хлама и пыли, залапанного монитора и грязных разобранных постелей.
Остались в прошлом, далёком и слепом, мои кислые мины и тусклые речи. Десять солнченых лет я учился улыбкам, грамоте, вежливости, силе, искусству общения, искусству любви. Это всё не зря, такое быть зря не может, не должно. Мне бы вот только вернуться обратно, не забыть бы, с чего всё начиналось. Кажется, впервые за всё это долгое время я отпустил свой шиворот, или свою шкирку, или как это правильно писать — отпустил себя, в общем, и повис, как старый пиджак на вешалке.
Знаете, некоторых людей создал не бог. Ну, не тот, который Иегова. Их создал другой, то есть другое существо, и наделил своей силой — и слабостью своей тоже. Каждый из этих людей думает, что он такой один. То есть ему всё равно, по сути, чёрный он а все белые, или же белый он а все чёрные; злые все а он добрый или же всё напротив. Это совершенно несущественно. Важно, чтобы не принадлежать к ним, к обычным людям. Или к необычным людям. К хорошим там, плохим ли, одарённым, которые умнее его или глупее, светлее или темнее — а просто все они из одного теста, а те, созданные моим Богом — из другого. Просто ощущать, что ты — из другого теста, что ты такой один, и не то чтобы презирать там, или бояться, или восхищаться другими — нет, это было бы просто. А только поставить стену, провести черту, ну, пусть условную черту. Вот тут — вы, а тут — я. Единственный в своём роде.
Вот что позволено каждому, в крови это у них: знать, что ты — единственный, неповторимый сын этого Творца. Творца, всеми ненавидемого, втоптанного в тлен с самых первых строк библейских текстов. Слабость эта в его гордости, и это его бич, и это его подарок своим детям. Детям, каждый из которых мнит себя самим собою, отделённым от всего другого творения шестого дня. А им оставили эту шалость, просто как изначальное условие.
Это добрая такая сказака, в которую так или иначе веришь. Мне с каждым днём всё неуютнее от чего-то, от ощущения беды что ли, или даже скорее оторванности от курса. Что-то не так я делаю, что-то совсем не так, и чем дальше тем больше не так. Наверное, мне может быть хорошо только наедине со вселенской грустью и одиночеством, право, это моё спасение. Мы, дети ненавистного Творца, или по-другому назовите: дети обезумевшей цивилизации, дети периода перелома. Энергий, которые всё больше и все сильнее; мира, который вертится всё быстрее — их дети мы. Мне не нужно много, у меня мало потребностей, но которые есть — обязательны, и я их не променяю. У меня очень мало сил, поэтому каждая крошка расходуется в меру. Мы — принципиальное несогласие с безумием, мы — протест против безмерной жажды поглощения.
Чему научили меня эти десять солнечных лет? Тому, что могло бы быть, родись я таким же; какой она бывает, жизнь-то, какое оно яркое, солнце-то. Они научили меня выбирать, что вот, мол, всё твоё; и надо выбрать то, что мне к сердцу. Мучают меня, мучают эти два пути, и чем дальше — тем отчётливее, чем дальше — тем ближе и страшнее. Кто из этих двух меня правильнее? Искуситель, скажи, ну вот как это будет, если я вдруг выберу этот солнечный мир, а Бога своего отвергну? Не попутал ли изменения с изменой, диавол ты мой?
А оказалось, что стоит расслабить внешнее, как внезапно на сэкономленные ресурсы начинает работать внутреннее, рождается откуда ни возмись приятная отстранённость и доброта, и не хочется ни с кем ругаться, и вообще совсем всё другое. Это ли оно или не это?
А мои ПЧ вот представить смогут Элвина, который ни на что не жалуется? У которого всё хорошо и замечательно? Пффф! Хоть здесь я тот же, что и десять лет назад. Хватит кривляться, сударь. Это всё — моё, тайное, оно как раз для того, чтобы больше нигде и никому.
Ах, если бы сенатор Амидала была здесь!…
Сколько нас, детей тёмного Творца, отягощённых пессимизмом, готизмом, аутизмом или чем там ещё. Как же можно зло путать с Великой Тенью и называть всё это одними именами?… Да неужели этого не понять так просто? Вам бы только побеждать, вам бы только скорее, сразу! Да что там… Какая разница, что как выглядит? Вы, оптимисты, вы думаете, вы сильные? Одно слово прямое наповал вас бьёт, как пуля, вам бы всё чистое да светлое подавай, люди вы красивые! А не нужно мне всё это, чтобы чувствовать себя, как вы говорите, окэй! Да согласен я быть добрым и всетерпеливым, мягким и нежным, только оставьте мне быть как я есть, только позвольте мне не лепить из себя это жизнерадостное улыбающееся чучело!
Кажется, всё.
Тогда, наверное, в удобном сиденье у большого окна, я решил распрощаться со своей эпохой десяти солнечных лет.
А может быть и раньше, в убогом жилище А.Г., среди хлама и пыли, залапанного монитора и грязных разобранных постелей.
Остались в прошлом, далёком и слепом, мои кислые мины и тусклые речи. Десять солнченых лет я учился улыбкам, грамоте, вежливости, силе, искусству общения, искусству любви. Это всё не зря, такое быть зря не может, не должно. Мне бы вот только вернуться обратно, не забыть бы, с чего всё начиналось. Кажется, впервые за всё это долгое время я отпустил свой шиворот, или свою шкирку, или как это правильно писать — отпустил себя, в общем, и повис, как старый пиджак на вешалке.
Знаете, некоторых людей создал не бог. Ну, не тот, который Иегова. Их создал другой, то есть другое существо, и наделил своей силой — и слабостью своей тоже. Каждый из этих людей думает, что он такой один. То есть ему всё равно, по сути, чёрный он а все белые, или же белый он а все чёрные; злые все а он добрый или же всё напротив. Это совершенно несущественно. Важно, чтобы не принадлежать к ним, к обычным людям. Или к необычным людям. К хорошим там, плохим ли, одарённым, которые умнее его или глупее, светлее или темнее — а просто все они из одного теста, а те, созданные моим Богом — из другого. Просто ощущать, что ты — из другого теста, что ты такой один, и не то чтобы презирать там, или бояться, или восхищаться другими — нет, это было бы просто. А только поставить стену, провести черту, ну, пусть условную черту. Вот тут — вы, а тут — я. Единственный в своём роде.
Вот что позволено каждому, в крови это у них: знать, что ты — единственный, неповторимый сын этого Творца. Творца, всеми ненавидемого, втоптанного в тлен с самых первых строк библейских текстов. Слабость эта в его гордости, и это его бич, и это его подарок своим детям. Детям, каждый из которых мнит себя самим собою, отделённым от всего другого творения шестого дня. А им оставили эту шалость, просто как изначальное условие.
Это добрая такая сказака, в которую так или иначе веришь. Мне с каждым днём всё неуютнее от чего-то, от ощущения беды что ли, или даже скорее оторванности от курса. Что-то не так я делаю, что-то совсем не так, и чем дальше тем больше не так. Наверное, мне может быть хорошо только наедине со вселенской грустью и одиночеством, право, это моё спасение. Мы, дети ненавистного Творца, или по-другому назовите: дети обезумевшей цивилизации, дети периода перелома. Энергий, которые всё больше и все сильнее; мира, который вертится всё быстрее — их дети мы. Мне не нужно много, у меня мало потребностей, но которые есть — обязательны, и я их не променяю. У меня очень мало сил, поэтому каждая крошка расходуется в меру. Мы — принципиальное несогласие с безумием, мы — протест против безмерной жажды поглощения.
Чему научили меня эти десять солнечных лет? Тому, что могло бы быть, родись я таким же; какой она бывает, жизнь-то, какое оно яркое, солнце-то. Они научили меня выбирать, что вот, мол, всё твоё; и надо выбрать то, что мне к сердцу. Мучают меня, мучают эти два пути, и чем дальше — тем отчётливее, чем дальше — тем ближе и страшнее. Кто из этих двух меня правильнее? Искуситель, скажи, ну вот как это будет, если я вдруг выберу этот солнечный мир, а Бога своего отвергну? Не попутал ли изменения с изменой, диавол ты мой?
А оказалось, что стоит расслабить внешнее, как внезапно на сэкономленные ресурсы начинает работать внутреннее, рождается откуда ни возмись приятная отстранённость и доброта, и не хочется ни с кем ругаться, и вообще совсем всё другое. Это ли оно или не это?
А мои ПЧ вот представить смогут Элвина, который ни на что не жалуется? У которого всё хорошо и замечательно? Пффф! Хоть здесь я тот же, что и десять лет назад. Хватит кривляться, сударь. Это всё — моё, тайное, оно как раз для того, чтобы больше нигде и никому.
Ах, если бы сенатор Амидала была здесь!…
Сколько нас, детей тёмного Творца, отягощённых пессимизмом, готизмом, аутизмом или чем там ещё. Как же можно зло путать с Великой Тенью и называть всё это одними именами?… Да неужели этого не понять так просто? Вам бы только побеждать, вам бы только скорее, сразу! Да что там… Какая разница, что как выглядит? Вы, оптимисты, вы думаете, вы сильные? Одно слово прямое наповал вас бьёт, как пуля, вам бы всё чистое да светлое подавай, люди вы красивые! А не нужно мне всё это, чтобы чувствовать себя, как вы говорите, окэй! Да согласен я быть добрым и всетерпеливым, мягким и нежным, только оставьте мне быть как я есть, только позвольте мне не лепить из себя это жизнерадостное улыбающееся чучело!
Кажется, всё.
Группы: [ концептуальное ]
Комментарии [8]
21:23 15-06-2005
Дерьмовый оптимизм
Кто-то хочет, чтобы всё было хорошо, а завтра ещё лучше. Но вот настоящий оптимизм — в улыбке среди безвылазного дерьма. Взгляд за горизонт, где дерьмо перейдёт в иную форму. Улыбаться, не видя дерьма — это как называется? Это что за оптимизм такой? Посмотрел бы я на этих живчиков, когда бы они увидели правду.
Да, ваш стакан наполовину заполнен, а мой — наполовину пустой. Мой оптимизм в том, что завтра он у меня будет полный.
Да, ваш стакан наполовину заполнен, а мой — наполовину пустой. Мой оптимизм в том, что завтра он у меня будет полный.
Группы: [ концептуальное ]
21:10 15-06-2005
Запись красная
Я не умею спорить.
У меня есть мнение, которым я делюсь. Я выслушиваю чужое мнение. Изменить мнение в процессе разговора — бред! Это заблуждение, порождающее и порождающее бесконечный и бесконечный трёп. Эта нелепость должна быть высмеяна во всех красках.
Разве что если два человека сходных взглядов обсуждают какой-нибудь деловой пустяк — тут один, подумав кратко, пересмотрит свои скользящие взгляды. Но и это не спор.
Мои теоремы давно доказаны.
Я не убеждаю, не доказываю и не уговариваю — я забиваю гвозди.
Иногда микроскопом.
Я могу пересмотреть взгляды — но на это требуется много времени, и, что самое главное, доказательства в жизни — цепь событий, на которые я могу посмотреть под новым углом свежевлитого мнения. И если сработает — взгляд мой расширится.
Жить в сомнениях — да, никуда не деваться, но зачем искусственно разводить их, как сорняки? Самому сомневаться? Сомнения приходят, они тут как тут после любого дела, после любого разговора, после любого дерзновения. Но пусть они будут после, а не во время.
И здорово, наверное, жить, приобретя нехитрую мудрость не афишировать своё мнение. Иметь мировоззрение — и не отстаивать его с пеной у рта. Вообще не декламировать, пока не спросят, да и после того. Тихо заниматься своим делом. Меньше философствовать, больше трудиться.
Но как быть, если предназначение твоё — проповедник? Когда само дело — говорить и убеждать? Когда слово является делом? Тут необходима чёткая и несгибаемая внутренняя система, калёная сталь, которая не дрогнет, вгрызаясь в твёрдую неподатливую породу.
Я не хочу уметь спорить, это пустая трата слов.
Я хочу уметь говорить.
У меня есть мнение, которым я делюсь. Я выслушиваю чужое мнение. Изменить мнение в процессе разговора — бред! Это заблуждение, порождающее и порождающее бесконечный и бесконечный трёп. Эта нелепость должна быть высмеяна во всех красках.
Разве что если два человека сходных взглядов обсуждают какой-нибудь деловой пустяк — тут один, подумав кратко, пересмотрит свои скользящие взгляды. Но и это не спор.
Мои теоремы давно доказаны.
Я не убеждаю, не доказываю и не уговариваю — я забиваю гвозди.
Иногда микроскопом.
Я могу пересмотреть взгляды — но на это требуется много времени, и, что самое главное, доказательства в жизни — цепь событий, на которые я могу посмотреть под новым углом свежевлитого мнения. И если сработает — взгляд мой расширится.
Жить в сомнениях — да, никуда не деваться, но зачем искусственно разводить их, как сорняки? Самому сомневаться? Сомнения приходят, они тут как тут после любого дела, после любого разговора, после любого дерзновения. Но пусть они будут после, а не во время.
И здорово, наверное, жить, приобретя нехитрую мудрость не афишировать своё мнение. Иметь мировоззрение — и не отстаивать его с пеной у рта. Вообще не декламировать, пока не спросят, да и после того. Тихо заниматься своим делом. Меньше философствовать, больше трудиться.
Но как быть, если предназначение твоё — проповедник? Когда само дело — говорить и убеждать? Когда слово является делом? Тут необходима чёткая и несгибаемая внутренняя система, калёная сталь, которая не дрогнет, вгрызаясь в твёрдую неподатливую породу.
Я не хочу уметь спорить, это пустая трата слов.
Я хочу уметь говорить.
Группы: [ концептуальное ]
07:25 12-06-2005
Бог
Бог — это удивление. Бог — это восхищение. Бог — это высшие струнки радости и понимания.
Я не называю Богом бородатого дядю в облаках. Но дядя этот, по имени Аллах или же Иегова, будет Богом тем, кого он вдохновит.
Бог — это не только существительное, но и прилагательное, но и глагол.
Для тех, кого позовёт Иисус — будет он Богом, кого призовёт Будда — будет Богом он. Человек, способный удивляться, восхищатться, испытывать экстаз — не спрашивает о Боге, он знает Его с первого удивления, с первого понимания, с первого озарения. И если учёный, материалист и скептик, вдруг находит нужную формулу, то не будет ли он в величайшем экастазе? Кто скажет, что он не видел Бога, пусть даже и не называет Его так? А кто-то, может быть, увидит Бога в красоте природы, в дальних, неизведанных краях — и тогда Бог позовёт его в путешествия. И будет человек этот вечно искать что-то — искать и не находить, хотя самое главное он уже нашёл.
Так разные у людей тропинки, и каждый идёт той, которую осветил ему Бог.
Глупостью будет идти за Богом, не видя Его, идти за словом, за миражом, за умственным представлением, идти, не веря по-настоящему. Никакие слова, никакие молитвы и обряды не смогут приблизить к Богу.
Но Бога можно найти в самом неожиданном месте, и пойти за Ним, оставив все предрассудки.
И только тот, кто, как Пачкуля Пёстренький, «никогда не умывается и ничему не удивляется», тот, кто ни перед чем не испытывает восхищения, кого не способна посетить высокая, блаженная радость, кто всё знает и больше ничего не хочет понимать — вот тот совершенно потерян для Бога, потому что не может Бог явить ему Себя.
«Вот, стою и стучу…»
Я не называю Богом бородатого дядю в облаках. Но дядя этот, по имени Аллах или же Иегова, будет Богом тем, кого он вдохновит.
Бог — это не только существительное, но и прилагательное, но и глагол.
Для тех, кого позовёт Иисус — будет он Богом, кого призовёт Будда — будет Богом он. Человек, способный удивляться, восхищатться, испытывать экстаз — не спрашивает о Боге, он знает Его с первого удивления, с первого понимания, с первого озарения. И если учёный, материалист и скептик, вдруг находит нужную формулу, то не будет ли он в величайшем экастазе? Кто скажет, что он не видел Бога, пусть даже и не называет Его так? А кто-то, может быть, увидит Бога в красоте природы, в дальних, неизведанных краях — и тогда Бог позовёт его в путешествия. И будет человек этот вечно искать что-то — искать и не находить, хотя самое главное он уже нашёл.
Так разные у людей тропинки, и каждый идёт той, которую осветил ему Бог.
Глупостью будет идти за Богом, не видя Его, идти за словом, за миражом, за умственным представлением, идти, не веря по-настоящему. Никакие слова, никакие молитвы и обряды не смогут приблизить к Богу.
Но Бога можно найти в самом неожиданном месте, и пойти за Ним, оставив все предрассудки.
И только тот, кто, как Пачкуля Пёстренький, «никогда не умывается и ничему не удивляется», тот, кто ни перед чем не испытывает восхищения, кого не способна посетить высокая, блаженная радость, кто всё знает и больше ничего не хочет понимать — вот тот совершенно потерян для Бога, потому что не может Бог явить ему Себя.
«Вот, стою и стучу…»
Группы: [ концептуальное ]
Комментарии [4]
13:11 24-04-2005
Nameless
Тебе, вожделенной, наверное, это всё. Я помню и знаю только одно чувство, испытанное мною к тебе, о, женское. Вожделение, как ствол дерева, прямой и упругий, и все остальные чувства и ощущения — торчащие неприлизанные ветки. Даже с самого детства, робея перед тобой с панамкой, где-нибудь в песочнице, уже похож был на человека без рта, учуявшего пирожное на блюдце. Сладкое, желанное, запашистое — и что с ним делать, пока у тебя нет рта?
Тебе, неуловимой. И зубы прорезались, и рот до ушей — но когда я мог поймать тебя? Когда бы ты лежала на блюдце, не помню ни мига такого, ни дня. Зато всю суету и позор весь помню, но что поделаешь, если склонен я хранить в извилинах памяти свои неудачи? Болезненные поначалу, тяжёлые как пудовая ноша, они, со временем, искуплялись что ли, потому что вдруг однажды становились невесомыми. И были новые потом, их я волоку теперь.
Тебе, непознанной, все мои рассуждения. Что бы ни говорил я о тебе, что бы ни думал, назавтра оказывается, что не такая ты. И мои песни и мелкие дерзания души — всё тебе, воздушной.
Тебе, развратной. Всё что говорил простого, пошлого, грубого — всё заслуживаешь, и кое-что из невысказанного тоже. Вся моя похоть про тебя; и назови ты меня низменным, но желание моё не может быть только плотским, грань слишком тонка. Вожделение моё многослойно, многопланово, многосторонне — и чего больше, души томления или плоти — судить не берусь. Но всё одно, одно стремление к тебе через всю жизнь, и только одно чувство… Я тебя люблю, да, но это не самое важное, потому что любовь моя суровая — детям, мужчинам и старухам, а тебе одно — горячее сияние желания.
Тебе, многоликой, тебе, непонятной. Какое имя ни повторю перед сном — всё твоё. Какой образ ни представлю — всё ты. Всю жизнь мою украла, воровка… А может быть даже и не была эта жизнь никогда моей. Твоя ведь она, потому что вся про тебя.
И весь тебе я, тебе, безымянной.
Тебе, неуловимой. И зубы прорезались, и рот до ушей — но когда я мог поймать тебя? Когда бы ты лежала на блюдце, не помню ни мига такого, ни дня. Зато всю суету и позор весь помню, но что поделаешь, если склонен я хранить в извилинах памяти свои неудачи? Болезненные поначалу, тяжёлые как пудовая ноша, они, со временем, искуплялись что ли, потому что вдруг однажды становились невесомыми. И были новые потом, их я волоку теперь.
Тебе, непознанной, все мои рассуждения. Что бы ни говорил я о тебе, что бы ни думал, назавтра оказывается, что не такая ты. И мои песни и мелкие дерзания души — всё тебе, воздушной.
Тебе, развратной. Всё что говорил простого, пошлого, грубого — всё заслуживаешь, и кое-что из невысказанного тоже. Вся моя похоть про тебя; и назови ты меня низменным, но желание моё не может быть только плотским, грань слишком тонка. Вожделение моё многослойно, многопланово, многосторонне — и чего больше, души томления или плоти — судить не берусь. Но всё одно, одно стремление к тебе через всю жизнь, и только одно чувство… Я тебя люблю, да, но это не самое важное, потому что любовь моя суровая — детям, мужчинам и старухам, а тебе одно — горячее сияние желания.
Тебе, многоликой, тебе, непонятной. Какое имя ни повторю перед сном — всё твоё. Какой образ ни представлю — всё ты. Всю жизнь мою украла, воровка… А может быть даже и не была эта жизнь никогда моей. Твоя ведь она, потому что вся про тебя.
И весь тебе я, тебе, безымянной.
Группы: [ концептуальное ]
21:01 20-11-2004
Мальчик с собакой
Драйв проглатывает ослепительный маленький оранжевый кружочек. Подставка для кофе визжит от восторга. Сквозь оранжевый пластик плоской коробочки размыто виден типографский квадрат диска снизу.
Я — тихая музыка справа и слева.
Я — накрывшийся винчестер камрада Элвина.
Вверху — самая чистая голубизна, переходящая выше в розовое и сиреневое, а ещё выше — ух, больно смотреть. Внизу — город сумасшедших очертаний, прообраз, прототип, не похожий на то, что потом получается. Представь: кто-то задумал построить здание, его ещё нет, но здесь сила мысли архитектора уже формирует странное кривобокое пятно. Он чертит план, выписывает планировку этажей, а здесь оно видоизменяется в такт его помыслам. И даже когда здание будет построено, здесь оно не будет таким, как там, но больше похожее на первоначальную идею, чем на продукт деяний каменщиков, сварщиков и штукатуров-маляров.
Между нами, ниже и выше мелькают тени, проносятся разноцветные пятна. Кто-то из них спит, кто-то из них уже не проснётся, а кто-то и не засыпал.
— А что это за дымка там, внизу, над городом, над лесами, над травами?
— Это те, кто не видит снов, сынок, — отвечает Архитектор.
Я — сизое облако над Стеклянной Башней.
Я — графит в циркуле Архитектора.
Яркое солнце смеётся в мокром асфальте, ослеплённый дождик обиженно доливает последние капли. Автобус с плоской мордой выплёвывает пассажиров через узкие двери. Белые и светлые тона окружены аурой, словно сквозь желатиновое стекло. Юноша выпрыгивает на остановке, и последние капельки падают с листвы ему за воротник, и он готовит речь, чтобы сказать, какой у вас тут проливной дождик в Академгородке, а в городе нету. Он перебегает тихоходную смежную дорогу, ветхими летними туфлями по лужам, и не замечает, потому что он идёт туда, где его сердце, и вот осталось уже несколько размашистых шагов до пятиэтажного дома.
Я — капелька дождя на его куртке.
Я — детская мечта в его взгяде.
Вся улица светится, прохожие радуются и танцуют, старушки кивают ему, подпрыгивая и улыбаясь, а влюблённые парочки под рябиной подмигивают. Он не замечает меня, гостя из будущего, туманным пятном на той стороне дороги. Он не знает будущего, счастливый, не хочет знать.
Я — трещинка в асфальте под его ногами.
Я — рыжий муравей на высокой сосне.
Да, я знаю, не искать себя ни в чём, и тогда будет новая свобода. Жить будущим, знаю. Но я там, где он двумя пальцами открывает кодовый замок и подъезд оживает, наполняясь красками. Кто знает, что творится в комнате, когда там никого нет? В отсутствии наблюдателя факт наличия объекта наблюдения недоказуем. Пятый этаж и бежево-серая железная дверь.
Я — пыль на старых ступеньках.
Я — кнопка громкого звонка у двери.
Пылинки летают в лучиках света в этой одинокой и покинутой комнате. Тоскливо мигает огоньком забытый монитор. На рыжем треугольном столе — недопитая прозрачная чашка с голубым рисунком. Ковёр покрыт крошками от слайсов. На разложенном диване — смятые синие простыни. Дождяная свежесть проникает с ветерком сквозь приоткрытую балконную дверь. Эта комната заморожена в пространстве и времени, здесь никто не жил, не живёт и не будет жить. И лишь тени цветных снов оживляются, когда он входит в подъезд. Спешат к двери, когда он доходит до пятого этажа. Превращаются в девочку с живыми глазами, когда он звонит. И она впускает его, а он заходит и вешает куртку, и говорит о том, что в Академе ливень, а в городе сухо.
Я — лучик в глубине её глаз.
Я — терпеливость его неразделённого чувства…
Иногда, когда всё старое уничтожено, стёрты все сто шестьдесят гигабайт песен, писем и картинок, я слушаю музыку, которая осталась. И я верю многому, чему не верить нельзя, но то, что видел кто-то другой — лишь то, что он хотел видеть. И чем дальше я отхожу от неё и такой чаши боли, сколько, кажется, не в силах выдержать ни одна мечта, чем больше разделяют нас новых лиц, нехоженных троп и пройденных циферблатов — тем ближе я к ней снова. Я не знаю, как может поместиться в её маленьком тельце и то, и это; да нет, я и не хочу ничего там помещать, и убегаю, слишком быстро, и запинаюсь, и падаю. Кто-то говорит, что она — это она, и ты здесь ни при чём, и она такая, какая есть — но я-то знал другую Машу, и видел ту, другую: Машу, которую никто не знал.
— Зачем я нужна тебе… такая?
— Я знаю, какая ты…
Видел ли я хоть раз хотя бы одного человека? Я смотрю, и представляю каждого таким, каким хочу видеть. Может быть, мы так и живём в представлениях, мы слепы, ужасно слепы, и нет никакого шанса научиться видеть правду. Ведь нельзя даже и представить, на что эта правда похожа. Все мы — Маши, которых никто толком не знает. Или всё не так? Или… безумной мыслью предположить, что то, какими мы хотим видеть друг друга — такие мы и есть по правде, а всё остальное — кто-то другой, случайные вибрации пылевых частичек, издержки производства самой грубой из возможных материй — физической.
Я — Морфеус, верящий в чудеса.
Я — неизбежное оправдание любому злу.
Хотелось бы набрать её номер, но мне, пожалуй, не хватит фантазии оживить её на этот раз. Я слишком боюсь, что мы однажды будем снова, и она материализуется, вместо того, чтобы быть вечной облачной мечтой. Будет слишком близко и не оставит места для… для настоящей самой себя. Я хочу умереть для материи, жить вне её, цепляясь кусочком плоти за её майю. Стоит лишь раз взглянуть медузе Горгоне в глаза — и будешь камнем.
Умереть отсюда. Умереть для здесь. Сколько мне осталось? Пятьдесят? Шестьдесят?
Уходя от себя, возвращаюсь к себе. Сто миллиардов шагов. Крепче сжимаю засвеченную, яркую детскую фотографию маленького меня и Маленькой Инь — свято веря, что смогу на этот раз удержать, но просыпаюсь — и руки пусты. И снова нет ни одного доказательства, и ни одного свидетельства, и снова приходит утро. Полдень и вечер — день первый, месяц шестой.
А неугомонный автор, вместе со своим скарбом, умирает на убитом куске высоких технологий. И лишь маленький его молочный кусочек на просторах Паутины продолжает жить. Да и он сам ещё жив, и может быть теперь даже ещё более настоящий, чем когда-либо… Пустая комната наполняется солнечным светом и медленно вальсирующими пылинками. На смятой постели — две подушки. Табло музыкального центра светит зелёным.
Чтобы одна часть воскресла, другая должна умереть: таков круговорот вещей. Прямо, по спирали, а затем наоборот, возвращаясь в исходную точку, просто чуть-чуть под другим углом.
Воздух. Без воздуха нельзя, пусть будет он упрям и игрив, неудержим в бесплотен. Что я без него, равзе как яхта без паруса. Разъединённые. Киль вертит лодку на месте, паруса улетают по ветру бесполезной тряпочкой. Над морем восходит солнце. Волна, накатив, смывает всю грязь и ошмётки, и берег снова чист. И только лучики светила отражаются в волнах, когда на берег выходят двое.
Я — солнечный зайчик в пене волн.
Я — пара следов на прохладном песке.
Самые дорогие вещи возвращаются на прежние места. Самые любимые персонажи снова здесь. Они бредут вдоль берега, играют и шепчутся, ветер треплет волосы и шерсть. И, как всегда, двое их: маленький мальчик и его верная собака.

Current music: Yann Tiersen - Childhood (2)
Я — тихая музыка справа и слева.
Я — накрывшийся винчестер камрада Элвина.
Вверху — самая чистая голубизна, переходящая выше в розовое и сиреневое, а ещё выше — ух, больно смотреть. Внизу — город сумасшедших очертаний, прообраз, прототип, не похожий на то, что потом получается. Представь: кто-то задумал построить здание, его ещё нет, но здесь сила мысли архитектора уже формирует странное кривобокое пятно. Он чертит план, выписывает планировку этажей, а здесь оно видоизменяется в такт его помыслам. И даже когда здание будет построено, здесь оно не будет таким, как там, но больше похожее на первоначальную идею, чем на продукт деяний каменщиков, сварщиков и штукатуров-маляров.
Между нами, ниже и выше мелькают тени, проносятся разноцветные пятна. Кто-то из них спит, кто-то из них уже не проснётся, а кто-то и не засыпал.
— А что это за дымка там, внизу, над городом, над лесами, над травами?
— Это те, кто не видит снов, сынок, — отвечает Архитектор.
Я — сизое облако над Стеклянной Башней.
Я — графит в циркуле Архитектора.
Яркое солнце смеётся в мокром асфальте, ослеплённый дождик обиженно доливает последние капли. Автобус с плоской мордой выплёвывает пассажиров через узкие двери. Белые и светлые тона окружены аурой, словно сквозь желатиновое стекло. Юноша выпрыгивает на остановке, и последние капельки падают с листвы ему за воротник, и он готовит речь, чтобы сказать, какой у вас тут проливной дождик в Академгородке, а в городе нету. Он перебегает тихоходную смежную дорогу, ветхими летними туфлями по лужам, и не замечает, потому что он идёт туда, где его сердце, и вот осталось уже несколько размашистых шагов до пятиэтажного дома.
Я — капелька дождя на его куртке.
Я — детская мечта в его взгяде.
Вся улица светится, прохожие радуются и танцуют, старушки кивают ему, подпрыгивая и улыбаясь, а влюблённые парочки под рябиной подмигивают. Он не замечает меня, гостя из будущего, туманным пятном на той стороне дороги. Он не знает будущего, счастливый, не хочет знать.
Я — трещинка в асфальте под его ногами.
Я — рыжий муравей на высокой сосне.
Да, я знаю, не искать себя ни в чём, и тогда будет новая свобода. Жить будущим, знаю. Но я там, где он двумя пальцами открывает кодовый замок и подъезд оживает, наполняясь красками. Кто знает, что творится в комнате, когда там никого нет? В отсутствии наблюдателя факт наличия объекта наблюдения недоказуем. Пятый этаж и бежево-серая железная дверь.
Я — пыль на старых ступеньках.
Я — кнопка громкого звонка у двери.
Пылинки летают в лучиках света в этой одинокой и покинутой комнате. Тоскливо мигает огоньком забытый монитор. На рыжем треугольном столе — недопитая прозрачная чашка с голубым рисунком. Ковёр покрыт крошками от слайсов. На разложенном диване — смятые синие простыни. Дождяная свежесть проникает с ветерком сквозь приоткрытую балконную дверь. Эта комната заморожена в пространстве и времени, здесь никто не жил, не живёт и не будет жить. И лишь тени цветных снов оживляются, когда он входит в подъезд. Спешат к двери, когда он доходит до пятого этажа. Превращаются в девочку с живыми глазами, когда он звонит. И она впускает его, а он заходит и вешает куртку, и говорит о том, что в Академе ливень, а в городе сухо.
Я — лучик в глубине её глаз.
Я — терпеливость его неразделённого чувства…
Иногда, когда всё старое уничтожено, стёрты все сто шестьдесят гигабайт песен, писем и картинок, я слушаю музыку, которая осталась. И я верю многому, чему не верить нельзя, но то, что видел кто-то другой — лишь то, что он хотел видеть. И чем дальше я отхожу от неё и такой чаши боли, сколько, кажется, не в силах выдержать ни одна мечта, чем больше разделяют нас новых лиц, нехоженных троп и пройденных циферблатов — тем ближе я к ней снова. Я не знаю, как может поместиться в её маленьком тельце и то, и это; да нет, я и не хочу ничего там помещать, и убегаю, слишком быстро, и запинаюсь, и падаю. Кто-то говорит, что она — это она, и ты здесь ни при чём, и она такая, какая есть — но я-то знал другую Машу, и видел ту, другую: Машу, которую никто не знал.
— Зачем я нужна тебе… такая?
— Я знаю, какая ты…
Видел ли я хоть раз хотя бы одного человека? Я смотрю, и представляю каждого таким, каким хочу видеть. Может быть, мы так и живём в представлениях, мы слепы, ужасно слепы, и нет никакого шанса научиться видеть правду. Ведь нельзя даже и представить, на что эта правда похожа. Все мы — Маши, которых никто толком не знает. Или всё не так? Или… безумной мыслью предположить, что то, какими мы хотим видеть друг друга — такие мы и есть по правде, а всё остальное — кто-то другой, случайные вибрации пылевых частичек, издержки производства самой грубой из возможных материй — физической.
Я — Морфеус, верящий в чудеса.
Я — неизбежное оправдание любому злу.
Хотелось бы набрать её номер, но мне, пожалуй, не хватит фантазии оживить её на этот раз. Я слишком боюсь, что мы однажды будем снова, и она материализуется, вместо того, чтобы быть вечной облачной мечтой. Будет слишком близко и не оставит места для… для настоящей самой себя. Я хочу умереть для материи, жить вне её, цепляясь кусочком плоти за её майю. Стоит лишь раз взглянуть медузе Горгоне в глаза — и будешь камнем.
Умереть отсюда. Умереть для здесь. Сколько мне осталось? Пятьдесят? Шестьдесят?
Уходя от себя, возвращаюсь к себе. Сто миллиардов шагов. Крепче сжимаю засвеченную, яркую детскую фотографию маленького меня и Маленькой Инь — свято веря, что смогу на этот раз удержать, но просыпаюсь — и руки пусты. И снова нет ни одного доказательства, и ни одного свидетельства, и снова приходит утро. Полдень и вечер — день первый, месяц шестой.
А неугомонный автор, вместе со своим скарбом, умирает на убитом куске высоких технологий. И лишь маленький его молочный кусочек на просторах Паутины продолжает жить. Да и он сам ещё жив, и может быть теперь даже ещё более настоящий, чем когда-либо… Пустая комната наполняется солнечным светом и медленно вальсирующими пылинками. На смятой постели — две подушки. Табло музыкального центра светит зелёным.
Чтобы одна часть воскресла, другая должна умереть: таков круговорот вещей. Прямо, по спирали, а затем наоборот, возвращаясь в исходную точку, просто чуть-чуть под другим углом.
Воздух. Без воздуха нельзя, пусть будет он упрям и игрив, неудержим в бесплотен. Что я без него, равзе как яхта без паруса. Разъединённые. Киль вертит лодку на месте, паруса улетают по ветру бесполезной тряпочкой. Над морем восходит солнце. Волна, накатив, смывает всю грязь и ошмётки, и берег снова чист. И только лучики светила отражаются в волнах, когда на берег выходят двое.
Я — солнечный зайчик в пене волн.
Я — пара следов на прохладном песке.
Самые дорогие вещи возвращаются на прежние места. Самые любимые персонажи снова здесь. Они бредут вдоль берега, играют и шепчутся, ветер треплет волосы и шерсть. И, как всегда, двое их: маленький мальчик и его верная собака.

Current music: Yann Tiersen - Childhood (2)
Группы: [ Книга о Нас ]
[ концептуальное ]
Комментарии [2]
20:41 27-09-2004
Запись двухсотая. Глас Тишины.
Как будто откуда-то издалека, из глубин самого тёмного колодца пишу эту запись. Здесь темно и сыро, и совсем безнадежно, и много разных слов сочинялось, но ничего не было записано. Странная разновидность депрессии — не та, в которой нет сил жить, но есть во что верить, а другая — та, в которой есть силы что-то делать, но потеряно самое главное, ради чего и стоит жить. Можно назвать это — вера. Пожалуй, самое единственное, чем я если и силён.
Но я должен написать всё-таки об одной вещи, лучше о ней, чем обо всех этих выдуманных страданиях, которые, знаю умом и опытом, рассыпятся однажды — должен, должен же придти день, когда эта самая чёрная из виданных мною полос, наконец, закончится. Так всё устроено — она должна закончиться. Я не верю в то, что будет хорошо когда-то, но знаю, что таков закон: ночь сменяется днём.
Есть два пути, и если первый путь очевиден во всех тысячах своих преломлений, то суть второго начинает становиться понятной далеко не сразу. И это при том, что второй путь не сокрыт где-то там, и представляет из себя вещь хотя и трудновыполнимую — но никак не труднонаходимую. И между тем столько тратится усилий, чтобы её найти. Это потому, что эта вещь, второй путь — она именно отличается от всех остальных вещей мира, и необъяснима при помощи этих остальных вещей.
Бывало ли у тебя, читатель, лёгкое ощущение о том, как всё обстоит на самом деле? Знакомо ли тебе едва уловимое прикосновение правды? Настоящей правды относительно чего-либо: события, мысли, намерения? Оно не похоже ни на то, что видят глаза, ни на работу логики, ни на пыл и движения эмоций. Это просто ощущение, даже не тихий голос, как его принято называть, а просто очень-очень лёгкое, почти незаметное чувство. Его легко перекрикнуть, и оно совсем не прилагает усилий, чтобы заставить себя слушать — но всё же его и нельзя заглушить: оно всё равно есть.
Его во все времена пытаются объяснить, вернее — показать, те, кто понял; но пока не увидишь сам — ты не поймёшь, о чём всё. Но когда, наконец, видишь — говоришь: а, так вот о чём шла речь! Неужели именно об этом! Почему же об этом нельзя было просто сказать? Но нельзя сказать, видимо, вот по какой причине; приведу пример, который кажется показательным. Я вспомнил, что есть такое специфическое ощущение, как «першит в горле». Так вот, как ребёнок может объяснить, что у него першит? И как ребёнку понять, что слово «першит» означает именно это ощущение? Ведь когда першит в горле, это не похоже ни на боль, ни на сухость, ни на тошноту. И пальцем тут не покажешь, не сравнишь. Просто однажды понимаешь, что под этим словом подразумевают именно это… Першит.
Так же и со вторым путём. Если тебе знакомо то, о чём я говорю — ты научаешься это видеть, чувствовать, отличать — это и есть тот самый Голос Бога, Глас Тишины.
И следующим приходит выбор. Потому что Голос Тишины нельзя доказать, нельзя объяснить мерками других вещей. Он ни с чем не сравним. Есть очевидность вещей и порядок мыслей, действия других людей, чувства и эмоции, заведённый уклад жизни — и в укладе этом есть место всему, кроме этой вещи. Зачем, зачем слушать этот Голос и действовать так?
Тот, кто слушается этой вещи, тот идёт в разлад с логикой, с чувствами, с положением вещей в мире. Тот, кто слушает это ощущение, тот идёт против очевидной правды, и в какой-то мере — против самого себя. Но не против того самого Ощущения. Ничем в этом мире он не докажет, что прав, и ничто не убедит. Я думаю, я всё думаю на этим, и прихожу к выводу, что никак нельзя убедить, равно как и убедиться в существовании Бога и Великих Просветлённых, в реальности Всемирного Братства, в существовании магии, иных миров, левитации, НЛО, телекинеза, чтения мыслей, всемирного добра и вселенского зла, и огромного мира, называемого психологами миром пустых фантазий серого вещества; и нельзя так же убедиться и проверить, что идти вслед за Тихим Гласом — правильнее и лучше. Я начинаю понимать, что нет никакой разницы, слушать ли голос обыденных вещей или же тот, другой. Но что-то должно быть в авторитете и в приоритете — это и рождает выбор.
Может быть, это ощущение — лишь продукт черезмерного ума, то что называется интуицией — и не более, рационально и объяснимо с медицинской точки зрения, особенно в те моменты, когда переростает по всем признакам в острую шизофрению. А может быть — весь мир нереален и лишь тот один голос — вечен, это ощущение — как спасительная струна, идущая сквозь майю воплощений, и держащийся её не знает смерти… Ни то ни другое — не доказуемо, и я не знаю, вправду не знаю, что влияет на этот выбор.
Просто можно метаться в бесконечных попытках доказать этот голос, проверить его и испытать в действии; можно игнорировать это ощущение, пойти к психиатру и пытаться жить очевидностью… А можно просто сделать выбор, окончательный — и этим закончить бесконечные терзания.
Делаю выбор… Не потому, что уверен в правдивости этого особого Ощущения, а потому, что понимаю, что нельзя жить там и там одновременно, потому что нужен выбор. Выбор есть — и выбора нет, он уже давно сделан, остаётся осознать его, так ли сказала Пифия? Осознать — и написать запись вроде этой.
Я знаю, знаю какие будут последствия… Но похоже на то, что я перестаю бояться многих вещей, которые казались страшными. Может быть, потому что увидел, что такое Настоящий Страх. Я напишу об этом, потом напишу, а пока…
Я не верю этому тихому ощущению, не научился ещё верить Гласу Тишины — мне только предстоит научиться в него верить. Но зато я научился точно одному: я больше не верю, не верю, не верю очевидности этого мира.
…Где-то здесь наверняка и должен начинаться этот самый другой путь.
Но я должен написать всё-таки об одной вещи, лучше о ней, чем обо всех этих выдуманных страданиях, которые, знаю умом и опытом, рассыпятся однажды — должен, должен же придти день, когда эта самая чёрная из виданных мною полос, наконец, закончится. Так всё устроено — она должна закончиться. Я не верю в то, что будет хорошо когда-то, но знаю, что таков закон: ночь сменяется днём.
Есть два пути, и если первый путь очевиден во всех тысячах своих преломлений, то суть второго начинает становиться понятной далеко не сразу. И это при том, что второй путь не сокрыт где-то там, и представляет из себя вещь хотя и трудновыполнимую — но никак не труднонаходимую. И между тем столько тратится усилий, чтобы её найти. Это потому, что эта вещь, второй путь — она именно отличается от всех остальных вещей мира, и необъяснима при помощи этих остальных вещей.
Бывало ли у тебя, читатель, лёгкое ощущение о том, как всё обстоит на самом деле? Знакомо ли тебе едва уловимое прикосновение правды? Настоящей правды относительно чего-либо: события, мысли, намерения? Оно не похоже ни на то, что видят глаза, ни на работу логики, ни на пыл и движения эмоций. Это просто ощущение, даже не тихий голос, как его принято называть, а просто очень-очень лёгкое, почти незаметное чувство. Его легко перекрикнуть, и оно совсем не прилагает усилий, чтобы заставить себя слушать — но всё же его и нельзя заглушить: оно всё равно есть.
Его во все времена пытаются объяснить, вернее — показать, те, кто понял; но пока не увидишь сам — ты не поймёшь, о чём всё. Но когда, наконец, видишь — говоришь: а, так вот о чём шла речь! Неужели именно об этом! Почему же об этом нельзя было просто сказать? Но нельзя сказать, видимо, вот по какой причине; приведу пример, который кажется показательным. Я вспомнил, что есть такое специфическое ощущение, как «першит в горле». Так вот, как ребёнок может объяснить, что у него першит? И как ребёнку понять, что слово «першит» означает именно это ощущение? Ведь когда першит в горле, это не похоже ни на боль, ни на сухость, ни на тошноту. И пальцем тут не покажешь, не сравнишь. Просто однажды понимаешь, что под этим словом подразумевают именно это… Першит.
Так же и со вторым путём. Если тебе знакомо то, о чём я говорю — ты научаешься это видеть, чувствовать, отличать — это и есть тот самый Голос Бога, Глас Тишины.
И следующим приходит выбор. Потому что Голос Тишины нельзя доказать, нельзя объяснить мерками других вещей. Он ни с чем не сравним. Есть очевидность вещей и порядок мыслей, действия других людей, чувства и эмоции, заведённый уклад жизни — и в укладе этом есть место всему, кроме этой вещи. Зачем, зачем слушать этот Голос и действовать так?
Тот, кто слушается этой вещи, тот идёт в разлад с логикой, с чувствами, с положением вещей в мире. Тот, кто слушает это ощущение, тот идёт против очевидной правды, и в какой-то мере — против самого себя. Но не против того самого Ощущения. Ничем в этом мире он не докажет, что прав, и ничто не убедит. Я думаю, я всё думаю на этим, и прихожу к выводу, что никак нельзя убедить, равно как и убедиться в существовании Бога и Великих Просветлённых, в реальности Всемирного Братства, в существовании магии, иных миров, левитации, НЛО, телекинеза, чтения мыслей, всемирного добра и вселенского зла, и огромного мира, называемого психологами миром пустых фантазий серого вещества; и нельзя так же убедиться и проверить, что идти вслед за Тихим Гласом — правильнее и лучше. Я начинаю понимать, что нет никакой разницы, слушать ли голос обыденных вещей или же тот, другой. Но что-то должно быть в авторитете и в приоритете — это и рождает выбор.
Может быть, это ощущение — лишь продукт черезмерного ума, то что называется интуицией — и не более, рационально и объяснимо с медицинской точки зрения, особенно в те моменты, когда переростает по всем признакам в острую шизофрению. А может быть — весь мир нереален и лишь тот один голос — вечен, это ощущение — как спасительная струна, идущая сквозь майю воплощений, и держащийся её не знает смерти… Ни то ни другое — не доказуемо, и я не знаю, вправду не знаю, что влияет на этот выбор.
Просто можно метаться в бесконечных попытках доказать этот голос, проверить его и испытать в действии; можно игнорировать это ощущение, пойти к психиатру и пытаться жить очевидностью… А можно просто сделать выбор, окончательный — и этим закончить бесконечные терзания.
Делаю выбор… Не потому, что уверен в правдивости этого особого Ощущения, а потому, что понимаю, что нельзя жить там и там одновременно, потому что нужен выбор. Выбор есть — и выбора нет, он уже давно сделан, остаётся осознать его, так ли сказала Пифия? Осознать — и написать запись вроде этой.
Я знаю, знаю какие будут последствия… Но похоже на то, что я перестаю бояться многих вещей, которые казались страшными. Может быть, потому что увидел, что такое Настоящий Страх. Я напишу об этом, потом напишу, а пока…
Я не верю этому тихому ощущению, не научился ещё верить Гласу Тишины — мне только предстоит научиться в него верить. Но зато я научился точно одному: я больше не верю, не верю, не верю очевидности этого мира.
…Где-то здесь наверняка и должен начинаться этот самый другой путь.
Группы: [ концептуальное ]
Комментарии [6]
16:19 22-07-2004
Ундергроунд
Он был совершенно бесполезен, и часто об этом догадывался, каждый раз находя одиннадцать оправданий своему тщетному бытию. Из депрессии его, словно на механических горках, выбрасывало на вершины дуги благодати, тогда он просто был счастлив — а если и не счастлив, то наполнен, совершенно теряя голову, когда его скоростной вагончик втягивало в мёртвую петлю. В такие мгновения он забывал о своей никчёмности, потому что забывал про всё вообще. А в другое время — помнил.
На городских улицах он слонялся совершенно лишним, никоим боком не вписываясь в большую систему. В системе людей он был случайно залетевшей кометой из не открытого астрономами созвездия. Может быть, когда-то он ещё надеялся влиться в группу, неважно, какую, и стать полноправным членом банды. Тогда бы он мог с гордостью назвать себя таким-то и таким-то, не думая больше о смысле себя. Учёные вычислили бы его орбиту и присвоили номер — что ещё нужно для счастья! Иногда его заносило в какие-то сообщества, но и там он чувствовал себя не на месте. Тогда он искал другие — кочевал, мотался, но не находил. И не удивительно — ведь он был бесполезен.
Никому от него не было проку. Он делал разные дела, иногда полезные, но их с трудом хватало, чтобы только оправдать саму его жизнь, чтобы только обусловить факт его физического существования.
Над ним всегда смеялись. Бывало, что открыто, бывало, что только за спиной. Девочки и мальчики, дяди и тёти, дома, автобусы, фонари, школьные тетрадки — презрительно щурились, снисходительно улыбались — так много, что он очень скоро к этому привык, и перестал обращать внимания на то, какие он вызывает ощущения. Наверное, он был смешным, а может быть, все были дураками, или Мураками, или — возможны варианты. Он привык — и это стало нормой. И всё-таки ни на грош не прибавляло смысла его жизни.
Он не был ни красивым, ни в особицу уродливым, ни слишком вычурным, но и не таким, как все. Ему хотелось скрыться, провалиться под землю, быть ундергроундом. И если бы изобрели шапку-невидимку, он бы конечно сразу же её добыл. Только и в этом тоже не было нужды. Его и так никто не замечал.
Он убеждал себя, что хочет прославиться, чтобы о нём заговорили, но на самом деле, ещё больше он желал бы найти своё место. Его вера менялась раз в три года, но единственное, во что он верил всегда — что где-то есть его место, специально для него, ему просто надо найти его, и перестать быть ненужным. У него не возникало особых предположений, что именно за место это должно быть, и он бы, наверное, принял его в любом виде. Но места в большой системе для него не существовало. Он был бесполезным.
Что он пытался делать — так просто замазывать щели. Это, конечно, тоже не имело никакого смысла, и никому не было нужно, но быть совсем без занятия он не мог. Так, он замазывал щели, заполняя краской мелкие трещинки между великими произведениями художников, забивая минорные ноты между строк известных партитур, придумывая недостающие слова, которых не хватало между тысячами рассказов и повестей на одну и ту же тему... Иначе тема осталась бы с пустотами, а земля не терпит пустоты.
Утрами он вылезал на работу из-под земли, а вечером снова возращался в свой ундергроунд, не забывая прошептать перед сном одиннадцать оправданий своему бесполезному существованию. Потом засыпал очень беспокойным сном, и всегда, почти всегда ему являлись яркие-яркие сновидения. Он видел одни и те же места — места, где он нужен, где его жизнь могла бы иметь значение, где он мог бы делать пользу. Это было просто игрой его подсознания, он знал это, потому что читал иногда труды разных учёных. И всё-таки каждое утро его будило солнце, и он вставал, потому что утро. А смысла не было, и неоткуда было взяться, ведь он был совершенно бесполезен.
всё решится потом, для одних Он никто
для меня — Господин
я стою в темноте, для одних я как тень
для других — невидим
я танцую не в такт, я всё сделал не так
не жалея о том
я сегодня похож на несбывшийся дождь
нерасцветший цветок
назову тебя льдом, только дело не в том
кто из нас холодней
всё никак не понять что же ближе:
земля или трещины в ней?
я невидим
наши лица — как дым
и никто не узнает, как мы победим...
Current music: Пикник - Я невидим
На городских улицах он слонялся совершенно лишним, никоим боком не вписываясь в большую систему. В системе людей он был случайно залетевшей кометой из не открытого астрономами созвездия. Может быть, когда-то он ещё надеялся влиться в группу, неважно, какую, и стать полноправным членом банды. Тогда бы он мог с гордостью назвать себя таким-то и таким-то, не думая больше о смысле себя. Учёные вычислили бы его орбиту и присвоили номер — что ещё нужно для счастья! Иногда его заносило в какие-то сообщества, но и там он чувствовал себя не на месте. Тогда он искал другие — кочевал, мотался, но не находил. И не удивительно — ведь он был бесполезен.
Никому от него не было проку. Он делал разные дела, иногда полезные, но их с трудом хватало, чтобы только оправдать саму его жизнь, чтобы только обусловить факт его физического существования.
Над ним всегда смеялись. Бывало, что открыто, бывало, что только за спиной. Девочки и мальчики, дяди и тёти, дома, автобусы, фонари, школьные тетрадки — презрительно щурились, снисходительно улыбались — так много, что он очень скоро к этому привык, и перестал обращать внимания на то, какие он вызывает ощущения. Наверное, он был смешным, а может быть, все были дураками, или Мураками, или — возможны варианты. Он привык — и это стало нормой. И всё-таки ни на грош не прибавляло смысла его жизни.
Он не был ни красивым, ни в особицу уродливым, ни слишком вычурным, но и не таким, как все. Ему хотелось скрыться, провалиться под землю, быть ундергроундом. И если бы изобрели шапку-невидимку, он бы конечно сразу же её добыл. Только и в этом тоже не было нужды. Его и так никто не замечал.
Он убеждал себя, что хочет прославиться, чтобы о нём заговорили, но на самом деле, ещё больше он желал бы найти своё место. Его вера менялась раз в три года, но единственное, во что он верил всегда — что где-то есть его место, специально для него, ему просто надо найти его, и перестать быть ненужным. У него не возникало особых предположений, что именно за место это должно быть, и он бы, наверное, принял его в любом виде. Но места в большой системе для него не существовало. Он был бесполезным.
Что он пытался делать — так просто замазывать щели. Это, конечно, тоже не имело никакого смысла, и никому не было нужно, но быть совсем без занятия он не мог. Так, он замазывал щели, заполняя краской мелкие трещинки между великими произведениями художников, забивая минорные ноты между строк известных партитур, придумывая недостающие слова, которых не хватало между тысячами рассказов и повестей на одну и ту же тему... Иначе тема осталась бы с пустотами, а земля не терпит пустоты.
Утрами он вылезал на работу из-под земли, а вечером снова возращался в свой ундергроунд, не забывая прошептать перед сном одиннадцать оправданий своему бесполезному существованию. Потом засыпал очень беспокойным сном, и всегда, почти всегда ему являлись яркие-яркие сновидения. Он видел одни и те же места — места, где он нужен, где его жизнь могла бы иметь значение, где он мог бы делать пользу. Это было просто игрой его подсознания, он знал это, потому что читал иногда труды разных учёных. И всё-таки каждое утро его будило солнце, и он вставал, потому что утро. А смысла не было, и неоткуда было взяться, ведь он был совершенно бесполезен.
всё решится потом, для одних Он никто
для меня — Господин
я стою в темноте, для одних я как тень
для других — невидим
я танцую не в такт, я всё сделал не так
не жалея о том
я сегодня похож на несбывшийся дождь
нерасцветший цветок
назову тебя льдом, только дело не в том
кто из нас холодней
всё никак не понять что же ближе:
земля или трещины в ней?
я невидим
наши лица — как дым
и никто не узнает, как мы победим...
Current music: Пикник - Я невидим
Группы: [ концептуальное ]
Комментарии [6]
17:24 12-04-2004
Звёзды
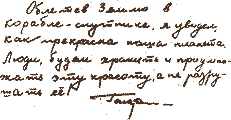
Сквозь снегопад.
Сквозь миллиарды холодных звёздочек.
Слово слякоть не имело и не имеет для меня отрицательного ощущения, и когда невыспавшиеся прохожие смотрели хмурыми и озябшими, то я улыбался им — любимой и единственно верной гагаринской улыбкой. Никто не улыбнулся в ответ.
Так я немножко понял одиночество того, кто летит к тёмно-синим просторам на ракете, а рядом проносятся молчаливые мерцающие крупицы далёких миров — и остаются позади, смешиваясь со светящимся газом сопел.
Вперёд, только вперёд.
А по дороге обратно смеркалось — ещё одно слово, не носящее неприятного смысла. Чуть потеплело, и снег сменился дождиком, слякоть же осталась на месте. Миллиарды звёздочек понежнели и растаяли, превратившись в бусинки капель — на копнах длинных волос, на кожаной куртке.
За ночь всё заледенеет, и ветки, и трава будут покрыты бриллиантами небесного хрусталя.
Смотрю на небо — там, за серой пеленой объективной реальности скрывается невидимое солнце… Не ставшее тусклее от того, что в отдельно взятом городе сегодня облачность без прояснений. А ещё, там, за чёрной пеленой — звёзды. Ты ведь помнишь?
Только один смелый взгляд, только одна мечта, и только одно слово:

Поехали!
Current music: Смысловые галлюцинации - Звёзды 3000
Группы: [ концептуальное ]
19:50 05-04-2004
Resident Evil
Не знаю, выйдет ли запись большой и можно ли будет по её размерам судить о её значимости… Писать слишком много не хочется, но пришедшее осознание слишком огромно.
И название-то подобрал какое! Словно хочу в очередной раз побаловать читателей сказочкой-страшилкой. О, нет, не сегодня.
Я обнаружил-таки основу всего зла, которое во мне — или правильнее сказать, страстей, почти неподвластных контролю разума. Я подходил время от времени близко к тому, чтобы понять суть зла, но сам тщательно скрывал его от себя под благовидными масками. Более того, я сделал тему почти святой! Во мне две темы чего-то Очень Прекрасного: это Молоко и Маленькая Инь. Но если в чистоте и непорочности молочных ощущений я уверен абсолютно, то записи про Маленькую Инь или, например, Слёзы Луны наполнены ароматом мощной сексуальности... Отчасти я уже почти понимал суть зла, размышляя о Сердечной Ране, но всё-таки только сейчас осознал, что самое абсолютно владеющее мной состояние — это состояние похоти, животной и безудержной. Большой ошибкой было обожествлять именно это состояние.
Конечно, поразмыслив, я увидел, что бывает секс и без похоти, то есть состояние одержания неким непонятным демоном совершенно необязательно связано с сексом; бывает и чистый секс: без злобы, без принуждения, без вожделения — одним словом, без присутствия неких вампирических существ в окружающем пространстве. Но это редкость.
А ощущение секса (или же мастурбации — не важно, разница только во вреде для себя или же кого-то), направленного на кормёжку этих самых вампиров по ощущениям отличается довольно резко — вот этой-то "тонкости" я умудрялся не замечать. Сексуальные действия ощущаются некой агрессией, невозможно сосредоточиться на какой-либо иной мысли, а после удовлетворения похоти чувствуешь себя довольно мерзко: сытый вапир удаляется в довольствии… А вот ощущение чистого секса (либо мастурбации), то есть без присутствия вампиров, совсем иное: это нечто светлое, может быть нежное, и очень правильное; и, в общем-то, неплохо согласующееся с теми самыми мистическими ощущениями, которые описаны в вышеприведённых записях.
И если состояния злобы или раздражения, не связанные с похотью мне контролировать трудно, но всё-таки возможно, при желании да при некотором усердии, то состояния, вызванные присутствием вампиров, а правильнее сказать — некоего демона, контролировать разумом очень тяжело. Именно этот демон вызывает целую гамму сопуствующих состояний: от безудержной злобы до панической безысходности, способной, пожалуй, свести на нет лучшие мысли и начинания и довести до самоубийства. Жёсткое присутствие демона ощущается, в основном, в паре с любимой, нежели в одиночестве, и отделаться от него можно только накормив его каким-либо образом: лучше всего удовлетвонрением похоти либо мощным взрывом отрицаетльных эмоций (читай: скандалом-истерикой). Тогда сытый демон удаляется на некоторое время, и всё же он всегда где-то рядом.
Как с ним бороться — пока не знаю. Воздержание? Тренировка воли? Самоконтроль?… Этот демон крепко встал поперёк дальнейшего продвижения моей телеги, и непонаслышке ясно, что он — один из величайших бичей человечества вообще. Животная страсть.
Так что точку в этой записи ставить рано: похоже, что начинается очень большая и продолжительная битва.
И название-то подобрал какое! Словно хочу в очередной раз побаловать читателей сказочкой-страшилкой. О, нет, не сегодня.
Я обнаружил-таки основу всего зла, которое во мне — или правильнее сказать, страстей, почти неподвластных контролю разума. Я подходил время от времени близко к тому, чтобы понять суть зла, но сам тщательно скрывал его от себя под благовидными масками. Более того, я сделал тему почти святой! Во мне две темы чего-то Очень Прекрасного: это Молоко и Маленькая Инь. Но если в чистоте и непорочности молочных ощущений я уверен абсолютно, то записи про Маленькую Инь или, например, Слёзы Луны наполнены ароматом мощной сексуальности... Отчасти я уже почти понимал суть зла, размышляя о Сердечной Ране, но всё-таки только сейчас осознал, что самое абсолютно владеющее мной состояние — это состояние похоти, животной и безудержной. Большой ошибкой было обожествлять именно это состояние.
Конечно, поразмыслив, я увидел, что бывает секс и без похоти, то есть состояние одержания неким непонятным демоном совершенно необязательно связано с сексом; бывает и чистый секс: без злобы, без принуждения, без вожделения — одним словом, без присутствия неких вампирических существ в окружающем пространстве. Но это редкость.
А ощущение секса (или же мастурбации — не важно, разница только во вреде для себя или же кого-то), направленного на кормёжку этих самых вампиров по ощущениям отличается довольно резко — вот этой-то "тонкости" я умудрялся не замечать. Сексуальные действия ощущаются некой агрессией, невозможно сосредоточиться на какой-либо иной мысли, а после удовлетворения похоти чувствуешь себя довольно мерзко: сытый вапир удаляется в довольствии… А вот ощущение чистого секса (либо мастурбации), то есть без присутствия вампиров, совсем иное: это нечто светлое, может быть нежное, и очень правильное; и, в общем-то, неплохо согласующееся с теми самыми мистическими ощущениями, которые описаны в вышеприведённых записях.
И если состояния злобы или раздражения, не связанные с похотью мне контролировать трудно, но всё-таки возможно, при желании да при некотором усердии, то состояния, вызванные присутствием вампиров, а правильнее сказать — некоего демона, контролировать разумом очень тяжело. Именно этот демон вызывает целую гамму сопуствующих состояний: от безудержной злобы до панической безысходности, способной, пожалуй, свести на нет лучшие мысли и начинания и довести до самоубийства. Жёсткое присутствие демона ощущается, в основном, в паре с любимой, нежели в одиночестве, и отделаться от него можно только накормив его каким-либо образом: лучше всего удовлетвонрением похоти либо мощным взрывом отрицаетльных эмоций (читай: скандалом-истерикой). Тогда сытый демон удаляется на некоторое время, и всё же он всегда где-то рядом.
Как с ним бороться — пока не знаю. Воздержание? Тренировка воли? Самоконтроль?… Этот демон крепко встал поперёк дальнейшего продвижения моей телеги, и непонаслышке ясно, что он — один из величайших бичей человечества вообще. Животная страсть.
Так что точку в этой записи ставить рано: похоже, что начинается очень большая и продолжительная битва.
Группы: [ концептуальное ]
Комментарии [9]
10:37 26-02-2004
Дождь за окном
Через три дня придёт Весна, но уже сейчас чувствую, как кончики её лёгких волос щекочут мне ноздри.
Будет март — я готов щурить глаза под ярким солнцем, подозрительно обходить особо крупные сосульки и быть слегка присыпанным снегом, сбрасываемым с крыш. Я готов к тому, что в доме весна ознаменуется особым, ни с чем не сравнимым запахом, благодаря стараниям моего замечательного и горячо любимого рыжего мартовского кота. Я почти привык, и нынешней весной, уверен — запах этот станет не менее привлекательным для меня, чем для его белошёрстной подружки, живущей тремя этажами ниже — той самой, что всегда.
Потом будет апрель — я готов прыгать через раскинувшиеся ручьи, радоваться вместе с весёлой детворой, пускающей пенопластовые кораблики в дальние плавания — сквозь ручейки и каналы, по реке-Оби к далёкому Северному Ледовитому. Я готов, чертыхаясь, по ночам проваливаться в лужи и ловить за шиворот капельки с карнизов — всё те же самые.
Настанет май — и я готов снова ходить босиком, и пусть себе думают, что хотят, эки герои, шесть миллиардов двуногих. Прорежут ясную небесную ткань белые хвосты высоких самолётов, заиграют во дворах тесные компании с гитарами — ночами напролёт готов слушать через открытые окна их нестройные голоса. Проводят тёмными ночами галогенные лампы, развернётся на набережной очередной рок-фестиваль, приедут те же любимые артисты и выйдет ди-джей с легко узнаваемым голосом — тот самый.
Я готов протянуть тебе руку ночью на первое — как обычно, только приходи, солнечная подружка, только не забудь, с левого берега — в открытую, как всегда, балконную дверь. И будем вечерять: и ты — всё та же, и я — тот самый…
…Только бы снова услышать дождь за окном.
Current music: Scooter - Forever (Keep Me Running)
Будет март — я готов щурить глаза под ярким солнцем, подозрительно обходить особо крупные сосульки и быть слегка присыпанным снегом, сбрасываемым с крыш. Я готов к тому, что в доме весна ознаменуется особым, ни с чем не сравнимым запахом, благодаря стараниям моего замечательного и горячо любимого рыжего мартовского кота. Я почти привык, и нынешней весной, уверен — запах этот станет не менее привлекательным для меня, чем для его белошёрстной подружки, живущей тремя этажами ниже — той самой, что всегда.
Потом будет апрель — я готов прыгать через раскинувшиеся ручьи, радоваться вместе с весёлой детворой, пускающей пенопластовые кораблики в дальние плавания — сквозь ручейки и каналы, по реке-Оби к далёкому Северному Ледовитому. Я готов, чертыхаясь, по ночам проваливаться в лужи и ловить за шиворот капельки с карнизов — всё те же самые.
Настанет май — и я готов снова ходить босиком, и пусть себе думают, что хотят, эки герои, шесть миллиардов двуногих. Прорежут ясную небесную ткань белые хвосты высоких самолётов, заиграют во дворах тесные компании с гитарами — ночами напролёт готов слушать через открытые окна их нестройные голоса. Проводят тёмными ночами галогенные лампы, развернётся на набережной очередной рок-фестиваль, приедут те же любимые артисты и выйдет ди-джей с легко узнаваемым голосом — тот самый.
Я готов протянуть тебе руку ночью на первое — как обычно, только приходи, солнечная подружка, только не забудь, с левого берега — в открытую, как всегда, балконную дверь. И будем вечерять: и ты — всё та же, и я — тот самый…
…Только бы снова услышать дождь за окном.
Current music: Scooter - Forever (Keep Me Running)
Группы: [ концептуальное ]
16:18 30-12-2003
Красивые люди
Мой предновогодний троллейбус через центр.
Мой предновогодний троллейбус радостно влетает в пробку на центральной. Примерзаю носом к окну. Меж ярких витрин, обложенных разноцветным льдом, между столбов и лавочек, между больших и снежных — толпы.
В переплетеньях важных улиц.
Потоки вдоль. Потоки поперёк.
Много-много-много-много-много красивых людей.
Скользят безразличными глазами. Несут тяжёлые. Кто-то налегке. Высокие сильные мужчины в зелёных куртках ведут под руку маленьких худеньких блондинок в дублёнках.
Они смотрят на меня с рекламных.
Они стреляют в меня антеннами сотовых.
Они окружили меня подлым заговором.
Крепче сжимаю аквариум с живой водой. Засопливленными перчаткми. В дырявой вязаной с лохматым помпоничком. Прижимаю к чёрному толостому тёплому китайскому. На коленях пепльных протёртых американских штанов.
Не отдам. Не отдам...
В дутые окна троллейбуса стучат кулаками. Сейчас перевернёмся. Отнимут.
В подворотни главных улиц.
Потоки справа. Потоки слева.
Много-много-много-много-много красивых людей.
И если я не доберусь.
И если я продам аквариум пустой напловину по сходной цене беззубому старику с золотыми коронками. То на деньги эти, то на эти деньги я красиво оденусь, куплю красивую походку, большой рост и карие глаза, и самую-самую модную девчонку под руку.
По самой главной улице города.
Надену дутую красную EarthGear. На ноги серую ртуть Nike. Побреюсь с пеной Gillette. Провоняю персперантом от Fa. Задохнусь в изделии LifeStyles. Закину пару Spearmint, чтобы заглушить вонь разложения изнутри. Волосы обесцвечу. На глаза напялю с оранжевыми стёклами, чтобы не видеть их больше, не видеть, не видеть... Чтобы быть одним из них.
Мочалки — в пене. Кенты отдыхают.
В грязных подворотнях чистых улиц.
В движении прямо и наискосок.
Потонуть в потоках в одном направлении.
Где идут много-много-много-много-много красивых людей.
Но я скорее разобью, чем продам. Скорее донесу, чем уроню.
Я спешу. Спешу сказать тебе привет. Половину выпил — половину тебе. Всё по-честному. Я не смогу по-другому.
И если выпьешь — станешь как я.
Мы будем ужастными, уродливыми, кривозубыми и прыщавыми.
Неприятными и ненавистными.
И трястись нам в автобусах, в обшарпанных троллебусах, в сонных трамваях, пешком вдоль пыльных дорог. Раствориться троянским червём среди слепых. И быть зрячими без цветных очков. Там...
Где улицы в красном свете.
Где толпы повторяющих одни и те же фразы. Прямо и задом наперёд.
Где отражения в ледяных витринах спешат навстречу огромному зелёному лесному растению, вырванному с корнем в жертву красивым числам календаря.
Где много, слишком много неисправимо красивых людей.
Current music: Tiamat - Trillon Zillion Centipedes
Мой предновогодний троллейбус радостно влетает в пробку на центральной. Примерзаю носом к окну. Меж ярких витрин, обложенных разноцветным льдом, между столбов и лавочек, между больших и снежных — толпы.
В переплетеньях важных улиц.
Потоки вдоль. Потоки поперёк.
Много-много-много-много-много красивых людей.
Скользят безразличными глазами. Несут тяжёлые. Кто-то налегке. Высокие сильные мужчины в зелёных куртках ведут под руку маленьких худеньких блондинок в дублёнках.
Они смотрят на меня с рекламных.
Они стреляют в меня антеннами сотовых.
Они окружили меня подлым заговором.
Крепче сжимаю аквариум с живой водой. Засопливленными перчаткми. В дырявой вязаной с лохматым помпоничком. Прижимаю к чёрному толостому тёплому китайскому. На коленях пепльных протёртых американских штанов.
Не отдам. Не отдам...
В дутые окна троллейбуса стучат кулаками. Сейчас перевернёмся. Отнимут.
В подворотни главных улиц.
Потоки справа. Потоки слева.
Много-много-много-много-много красивых людей.
И если я не доберусь.
И если я продам аквариум пустой напловину по сходной цене беззубому старику с золотыми коронками. То на деньги эти, то на эти деньги я красиво оденусь, куплю красивую походку, большой рост и карие глаза, и самую-самую модную девчонку под руку.
По самой главной улице города.
Надену дутую красную EarthGear. На ноги серую ртуть Nike. Побреюсь с пеной Gillette. Провоняю персперантом от Fa. Задохнусь в изделии LifeStyles. Закину пару Spearmint, чтобы заглушить вонь разложения изнутри. Волосы обесцвечу. На глаза напялю с оранжевыми стёклами, чтобы не видеть их больше, не видеть, не видеть... Чтобы быть одним из них.
Мочалки — в пене. Кенты отдыхают.
В грязных подворотнях чистых улиц.
В движении прямо и наискосок.
Потонуть в потоках в одном направлении.
Где идут много-много-много-много-много красивых людей.
Но я скорее разобью, чем продам. Скорее донесу, чем уроню.
Я спешу. Спешу сказать тебе привет. Половину выпил — половину тебе. Всё по-честному. Я не смогу по-другому.
И если выпьешь — станешь как я.
Мы будем ужастными, уродливыми, кривозубыми и прыщавыми.
Неприятными и ненавистными.
И трястись нам в автобусах, в обшарпанных троллебусах, в сонных трамваях, пешком вдоль пыльных дорог. Раствориться троянским червём среди слепых. И быть зрячими без цветных очков. Там...
Где улицы в красном свете.
Где толпы повторяющих одни и те же фразы. Прямо и задом наперёд.
Где отражения в ледяных витринах спешат навстречу огромному зелёному лесному растению, вырванному с корнем в жертву красивым числам календаря.
Где много, слишком много неисправимо красивых людей.
Current music: Tiamat - Trillon Zillion Centipedes
Группы: [ концептуальное ]
12:50 22-11-2003
Сердечная Рана
Рано или поздно течение событий жизни начинает затрагивать главные жизненные вопросы — колебать Устои. Вот и мои размышления, вслед за известными событиями, коснулись самого Незыблемого. Итак, расскажу, о чём идёт речь: это одна из главных, если не главная, карма моей жизни. Такую карму философ Авессалом Подводный назвал «священной раной», я же, немного его перефразировав, называю мою рану Сердечной.
Проявляет себя Сердечная Рана довольно нехитро. Я влюбляюсь в каждое существо женского пола, которое хоть чем-то попадает под определение девушки — то есть потеницальной кандидатки на взаимные глубокие чувства и половые отношения. И влюблённость эта, вкупе с явными половыми чувствами очень сильно мешает нормальному общению, окрашивая его во вполне определённый тон. Я не заигрываю, нет, и не флиртую — я действительно влюблён!
Правда, происходит это только тогда, когда Сердечная Рана открыта — но в таком состоянии она почти всегда. Закрыть Рану может только присутствие девушки, которая достаточно отвечает моим представлениям об Идеале Женственности, и, конечно, с которой поддерживаются половые отношения. На этом месте, вероятно, стоит пояснить что значит половые отношения — я не имею в виду собственно секс, но подразумеваю особое чувство, которое невозможно ни с чем спутать. Так вот, Рана в таком случае закрывается, и все остальные представительницы прекрасного пола перестают иметь на меня сколько-нибудь существенно половое влияние — я могу общаться вполне спокойно, ничего этим общением не имея в виду; меня полностью поглощают отношения с моей избранницей.
Так выглядит действие Сердечной Раны. У неё есть, несомненно и положительные и отрицательные стороны: и если минусы очевидны, то плюс, например, в том, что я исключительно верен и предан моей избраннице, измену совершенно не могу представить. Вполне естественно, что те же требования у меня возникют и к ней: достаточное ответное внимание ко мне и, главное, к нашим отношениям и такую же преданность.
Надо заметить, справделивости ради, что моя последняя избранница была единственной, кто смогла закрыть мою Рану полностью и на достаточно долгий промежуток времени, измеряемый месяцами; тогда как в других случаях счёт был на дни. Она вобрала в себя почти все мыслимые женские качества, которые я считал идеально важными… Разрушила отношения моя иллюзия: она всё-таки не испытывала ко мне половой любви; я так думаю, что она просто не прошла половое созревание и, как следствие, не видит сути отличий между мужчиной и женщиной и не понимает важности полового вопроса. Именно это непонимание и привело к измене — которую она за измену, что естественно в её случае, не считает. Поняв это, я смог её простить… Кстати, сегодня ровно пять месяцев… Но я отвлёкся от темы.
Все попытки преодолеть действие Раны во всех случаях терпели полное фиаско — видя нежелание девушек углублять отношения, я не мог продолжать общение, поскольку оно несло огромную боль, и как следствие — совершенно безудержную и безумную мою злобу. То же самое и в отношениях с избранницей — ощущение недостатка внимания к нашим отношениям я воспринимал как предательство своих чувств.
И вот теперь, в очередной раз вернувшись к этой весьма важной и одновременно болезненной теме я стал перед Шекспировским вопросом: быть или не быть? То есть задача Раны может быть решена двумя способами, а не одним, как мне казалось раньше. Но способ решения напрямую зависит от сущности Раны — это именно тот вопрос, с которым я и не могу определиться. Ранее, учитывая вопиющую безуспешность любых попыток преодоления магического действия Раны, я полагал, что она будет закрыта однажды Той Самой Избранницей, которую я так жду — рана будет закрыта ею навсегда, и моё обособленное отношение к женскому вопросу придёт в равновесие. Получается, в таком случае Рана имеет высокодуховное происхождение, подчёркивая мою задачу найти мою Единственную.
Однако, я начинаю приходить к тому, что, возможно, Рана — исключительно продукт эгоизма и того же непонимания многих моментов полового вопроса. То есть являет собой некоторую грязь — очнь большую грязь, которую надо преодлеть… Какими-то совершенно нечеловеческими усилиями, сдерживая эгоизм, боль, злобу и ощущение предательства высоких чувств… Наверное, при крайнем напряжении это всё-таки возможно, хотя даже недавние события показывают, что смирить вспышки обиды и гнева очень сложно: они слишком из глубины идут, слишком похожи на гнев священный. Эти вспышки не обязательно видны, но причиняют боль изнутри… Посильно ли стерпеть это? Вопрос даже в другом — необходимо ли? Если необходимо — значит, придётся приложить усилия.
Вот перед таким вопросом стою. И решение этого вопроса, выбор направления дальнейшего движения очень важен для меня — вся моя жизнь смотрится под другим углом, если стать на вторую точку зрения…
Оракул из Матрицы сказала, что выбор уже сделан, нам просто хочется понять, почему он именно таков… Получается, я уже знаю, как правильно, просто не хочу двигаться по этому пути?
Интересно, есть ли ещё у кого подобная Рана?
Проявляет себя Сердечная Рана довольно нехитро. Я влюбляюсь в каждое существо женского пола, которое хоть чем-то попадает под определение девушки — то есть потеницальной кандидатки на взаимные глубокие чувства и половые отношения. И влюблённость эта, вкупе с явными половыми чувствами очень сильно мешает нормальному общению, окрашивая его во вполне определённый тон. Я не заигрываю, нет, и не флиртую — я действительно влюблён!
Правда, происходит это только тогда, когда Сердечная Рана открыта — но в таком состоянии она почти всегда. Закрыть Рану может только присутствие девушки, которая достаточно отвечает моим представлениям об Идеале Женственности, и, конечно, с которой поддерживаются половые отношения. На этом месте, вероятно, стоит пояснить что значит половые отношения — я не имею в виду собственно секс, но подразумеваю особое чувство, которое невозможно ни с чем спутать. Так вот, Рана в таком случае закрывается, и все остальные представительницы прекрасного пола перестают иметь на меня сколько-нибудь существенно половое влияние — я могу общаться вполне спокойно, ничего этим общением не имея в виду; меня полностью поглощают отношения с моей избранницей.
Так выглядит действие Сердечной Раны. У неё есть, несомненно и положительные и отрицательные стороны: и если минусы очевидны, то плюс, например, в том, что я исключительно верен и предан моей избраннице, измену совершенно не могу представить. Вполне естественно, что те же требования у меня возникют и к ней: достаточное ответное внимание ко мне и, главное, к нашим отношениям и такую же преданность.
Надо заметить, справделивости ради, что моя последняя избранница была единственной, кто смогла закрыть мою Рану полностью и на достаточно долгий промежуток времени, измеряемый месяцами; тогда как в других случаях счёт был на дни. Она вобрала в себя почти все мыслимые женские качества, которые я считал идеально важными… Разрушила отношения моя иллюзия: она всё-таки не испытывала ко мне половой любви; я так думаю, что она просто не прошла половое созревание и, как следствие, не видит сути отличий между мужчиной и женщиной и не понимает важности полового вопроса. Именно это непонимание и привело к измене — которую она за измену, что естественно в её случае, не считает. Поняв это, я смог её простить… Кстати, сегодня ровно пять месяцев… Но я отвлёкся от темы.
Все попытки преодолеть действие Раны во всех случаях терпели полное фиаско — видя нежелание девушек углублять отношения, я не мог продолжать общение, поскольку оно несло огромную боль, и как следствие — совершенно безудержную и безумную мою злобу. То же самое и в отношениях с избранницей — ощущение недостатка внимания к нашим отношениям я воспринимал как предательство своих чувств.
И вот теперь, в очередной раз вернувшись к этой весьма важной и одновременно болезненной теме я стал перед Шекспировским вопросом: быть или не быть? То есть задача Раны может быть решена двумя способами, а не одним, как мне казалось раньше. Но способ решения напрямую зависит от сущности Раны — это именно тот вопрос, с которым я и не могу определиться. Ранее, учитывая вопиющую безуспешность любых попыток преодоления магического действия Раны, я полагал, что она будет закрыта однажды Той Самой Избранницей, которую я так жду — рана будет закрыта ею навсегда, и моё обособленное отношение к женскому вопросу придёт в равновесие. Получается, в таком случае Рана имеет высокодуховное происхождение, подчёркивая мою задачу найти мою Единственную.
Однако, я начинаю приходить к тому, что, возможно, Рана — исключительно продукт эгоизма и того же непонимания многих моментов полового вопроса. То есть являет собой некоторую грязь — очнь большую грязь, которую надо преодлеть… Какими-то совершенно нечеловеческими усилиями, сдерживая эгоизм, боль, злобу и ощущение предательства высоких чувств… Наверное, при крайнем напряжении это всё-таки возможно, хотя даже недавние события показывают, что смирить вспышки обиды и гнева очень сложно: они слишком из глубины идут, слишком похожи на гнев священный. Эти вспышки не обязательно видны, но причиняют боль изнутри… Посильно ли стерпеть это? Вопрос даже в другом — необходимо ли? Если необходимо — значит, придётся приложить усилия.
Вот перед таким вопросом стою. И решение этого вопроса, выбор направления дальнейшего движения очень важен для меня — вся моя жизнь смотрится под другим углом, если стать на вторую точку зрения…
Оракул из Матрицы сказала, что выбор уже сделан, нам просто хочется понять, почему он именно таков… Получается, я уже знаю, как правильно, просто не хочу двигаться по этому пути?
Интересно, есть ли ещё у кого подобная Рана?
Группы: [ концептуальное ]
Комментарии [4]
13:38 19-11-2003
Следы на песке
Как-то раз одному человеку приснился сон. Ему снилось, будто он идёт песчаным берегом, а рядом с ним — Господь. На небе мелькали картины из его жизни, и после каждой из них он замечал на песке две цепочки следов: одну от его ног, другую — от ног Господа.
Когда перед ним промелькнула последняя картина из его жизни, он оглянулся на следы на песке. И увидел, что часто вдоль его жизненного пути тянулась лишь одна цепочка следов. Заметил он также, что это самые несчастные и тяжёлые времена в его жизни.
Он сильно опечалился и стал спрашивать Господа: «Не Ты ли говорил мне: если последую путём Твоим, Ты не оставишь меня. Но я заметил, что в самые трудные времена моей жизни лишь одна цепочка следов тянулась по песку. Почему же Ты покидал меня, когда я больше всего нуждался в Тебе?»
Господь отвечал: «Моё милое, милое дитя, Я люблю тебя и никогда тебя не покину. Когда были в твоей жизни горе и испытания, лишь одна цепочка следов тянулась по дороге, потому что в те времена Я нёс тебя на руках».
Перепечатано из пособия для учащихся «Мой мир и я: путь к единению».
Когда перед ним промелькнула последняя картина из его жизни, он оглянулся на следы на песке. И увидел, что часто вдоль его жизненного пути тянулась лишь одна цепочка следов. Заметил он также, что это самые несчастные и тяжёлые времена в его жизни.
Он сильно опечалился и стал спрашивать Господа: «Не Ты ли говорил мне: если последую путём Твоим, Ты не оставишь меня. Но я заметил, что в самые трудные времена моей жизни лишь одна цепочка следов тянулась по песку. Почему же Ты покидал меня, когда я больше всего нуждался в Тебе?»
Господь отвечал: «Моё милое, милое дитя, Я люблю тебя и никогда тебя не покину. Когда были в твоей жизни горе и испытания, лишь одна цепочка следов тянулась по дороге, потому что в те времена Я нёс тебя на руках».
Автор неизвестен.
Перепечатано из пособия для учащихся «Мой мир и я: путь к единению».
Группы: [ концептуальное ]
Комментарии [20]
21:03 23-09-2003
Matrix rloeaedd
Уаслотсть пкодрадеывсатя нзааемтно. Нтасасло вермя пейерти на втнуренинй ржием эеногрсебрежнеия, кротыой беудт акатулен на птрояежини бишйжалих шсети меяцесв.
Пока сонва не наупитст весна.
Иогдна не зшнаеь сиовх прелдеов, даже счейас, лкего чатиая совшнеерно нпеоянтыне пьисемна — понишаемь, чт ное всё так прсото в эотй маьлекной косоятнй коорбке, наыкортй капюошном. Хоесчтя снвоа стать мкаьенлим и нетаезнмым, спятатрь в саымй глуохй крмаан свюо с таким трдоум наклнопеную силу. Зтаыбь про люобвь, заыбть про слнцое. Птисаь неуныныже тектсы, гвиортоь лшиине солва и птеь тихие и грнусыте пснеи... Реквием по метче.
Пртосо ваыпл пвыерй снег.
Пока сонва не наупитст весна.
Иогдна не зшнаеь сиовх прелдеов, даже счейас, лкего чатиая совшнеерно нпеоянтыне пьисемна — понишаемь, чт ное всё так прсото в эотй маьлекной косоятнй коорбке, наыкортй капюошном. Хоесчтя снвоа стать мкаьенлим и нетаезнмым, спятатрь в саымй глуохй крмаан свюо с таким трдоум наклнопеную силу. Зтаыбь про люобвь, заыбть про слнцое. Птисаь неуныныже тектсы, гвиортоь лшиине солва и птеь тихие и грнусыте пснеи... Реквием по метче.
Пртосо ваыпл пвыерй снег.
Группы: [ концептуальное ]
Комментарии [1]
23:09 06-09-2003
Вместе
Рукопожатие – это когда мы протягиваем друг другу руки.
Рукопожатие – хитрая штука.
Рукопожатие невозможно совершить стремлением только одной стороны, сколь сильным бы оно не было: если только ты протянешь руку или только я протяну – рукопожатия не будет.
Быть вместе – как рукопожатие.
Рукопожатие – хитрая штука.
Рукопожатие невозможно совершить стремлением только одной стороны, сколь сильным бы оно не было: если только ты протянешь руку или только я протяну – рукопожатия не будет.
Быть вместе – как рукопожатие.
Группы: [ концептуальное ]
Комментарии [2]